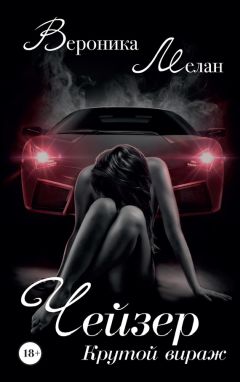Ольга Трифонова - Запятнанная биография (сборник)
— Вы ведь новенькая, в коллектив еще не влились по-настоящему, а у нас чудесная агитбригада. Ездим по селам с концертами, я потом фотомонтаж делаю, не видели в конференц-зале последний материал, поездка в Кулдигский район?
— Нет.
— А сейчас новый готовлю.
«Почему у него такое красное лицо и глаза горят?»
— …Кто-то должен помочь, со всем не справлюсь, договорились?
— Хорошо.
— Значит, через часик.
— Хорошо.
— А если просьба маленькая?
Зубами из нагрудного кармана вынул черный пакет, протянул мне, как собака.
— Отнесите это в третье отделение, в пятую палату. Фотографировал одного больного, на память о пребывании. Маленький, но честный заработок. Он вам деньги даст, пять рублей, заодно и принесете.
— Как его фамилия?
— Таймень.
«Сколько здесь Тайменей. Я тоже таймень. Выброшенный на сушу».
Ходить в мужское отделение неприятно. Нужно идти по коридорам и стараться не смотреть в раскрытые двери палат, а то или окликнут, чтоб разговор дурацкий завести, или увидишь что-нибудь такое, что долго в самые неподходящие моменты будешь вспоминать жалостливо и гадливо.
Но я уже научилась не смотреть — и мимо, не обращая внимания на призывы.
— Сестричка, девушка, минуточку, — голоса молодые. Лежат без дела по два-три месяца, «дурью маются», как говорит Дайна.
Но я не случайно здесь, не только потому, что краснолицый с ластами послал.
Всю ночь падал в таз закопченный окорок, обмотанный полотенцем, и это была моя нога, и я просыпалась с падающим сердцем и не узнавала розовой комнаты в стиле кич, не понимала, где я: страх, отчаяние, белесый свет за окном. Что это? Рассвет? Значит, я опоздала на работу! Но я не могу ехать на работу, у меня теперь нет ноги.
Спасало привычное движение руки к будильнику. Три.
Узнавала комнату, рисунок обоев.
Я не могу привыкнуть к белым северным ночам, они мучают меня тоской, и ужасны эти глухие часы, я не хочу их переживать, бодрствуя. Ложусь спиной к светлому окну и вспоминаю хорошее:
…И будет утром светлое окно,
И музыка, и облака в движенье…
…И будет ночью светлое окно,
И будет ночью светлое окно…
И…
Снова мажут йодом фиолетово-синее, бесчувственное, мою ногу, мою душу, обматывают полотенцем, и я знаю, сейчас она упадет в таз закопченным окороком.
Я должна была прийти сюда, я ведь шла сюда, и колчерукий — случайность. Он, конечно, не совсем в уме, это красное лицо, этот напор слов, он даже не обратил внимания на ведерко с черникой.
Открыла дверь процедурной — и сразу в глаза белый, складками обвисший старческий зад. Скайдрите обернулась от плитки.
— Анит, свейке!
На зад не смотрю, спрашиваю:
— Черники хочешь?
— Нет. От нее рот черный, как у собаки.
— Скажи, в какой палате больной после ампутации?
— В восьмой, — доносится глухо со стороны зада, — в моей он палате. Вы были бы людьми, кольнули бы ему промедол.
— Когда будет нужно, тогда кольнем, — строго парирует Скайдрите, идет со шприцем к сердобольному заду, спрашивает: — Сегодня в какую?
— В левую, — отвечает плаксиво и кряхтит заранее.
— Смотри, Анит, как надо, в верхний квадрат, — зовет Скайдрите, шепотью проводит по дряблой ягодице сначала вертикально, потом вдоль, — смотри, вот сюда и перпендикулярно.
Больной хмыкнул:
— Перекрещиваешь, что ли…
Скайдрите одним движением всаживает иглу, нажала поршень, резко отняла шприц.
— Долго еще? Я устал так стоять.
— А вас никто и не просит. Стоите так, без дела. — Скайдрите отходит к столу, кладет шприц в лоток. — Прямо как перед операцией трясетесь каждый раз.
— Можно мне зайти в восьмую? — спрашиваю я.
— Зачем? Ирма Августовна не любит, дай я сама передам.
— Мне нужно, понимаешь, он из моей деревни, — соврала я.
— Только быстро, пока обед.
Уколотый ковыляет рядом, торопится уговорить, пока идем по коридору.
— Промедольчик ему на ночь обязательно нужен. Мы же не спали, как стонал. Нужно же иметь гуманность. Он человек необразованный, что спросить, не знает, стесняется. А промедольчик хорошо. Вы не можете? — заглядывает в глаза. Лицо нехорошее, несвежее, и искательность какая-то неприятная.
— Я не из этого отделения.
— Знаю, знаю, — заверяет с радостным подобострастием, — здесь такой жестокий персонал. Меня вот, например, ночью боли тоже мучают ужасно. А они не верят.
Я что-то слышала о таких, привыкших к обезболивающему, что-то глухое, запретное.
— Я могу сам зайти.
— Я не имею доступа к медикаментам.
— Ну, может, подружка, — зашептал горячо, преграждая дорогу к двери, — одну ампулочку.
«Кстати, — мелькнуло шальное, — кстати, есть же, наверное, что-то совсем легкое, просто уснуть, не дома, конечно, не у Вилмы, а уйти в лес далеко и уснуть…»
— Одну ампулочку, я заплачу!
«О Господи! И чего ты привязался! Что тебе нужно от меня!»
— Пропустите меня, пожалуйста, и перестаньте молоть ерунду, нет у меня промедола.
Он тотчас пропустил в палату, видно, истерический призвук в моем голосе подействовал. Точно. Успел пробормотать обидное:
— Вам самой тазепамчик принимать не мешает. По две таблетки, утром и вечером.
Узнала его сразу. Лежал у окна. Щетина отросла сильно, и я сказала, подойдя к изголовью:
— Добрый день. Давайте я вас побрею.
Тотчас приподнялся, опираясь на локоть. Жилистая шея в щетине седых волосков.
— А что? Дело! Ребята, кто бритву даст?
Ребята загудели за моей спиной.
— У меня электрическая, электрическая не возьмет. Девушка, возьмите у меня в тумбочке.
Глаза у него какие-то выцветшие, губы обметало. Больничная рубашка в ржавых пятнах застиранной чужой крови.
«Зачем я предложила побрить? Я ведь не умею. Надо вспомнить, как бреются. Агафонов брился в ванной. Намазывал лицо чем-то белым, пенистым, из тюбика. Я покупала эти тюбики. Называются „Флорена“, крем для бритья. Как-то смешно надувал щеки, становился похожим на мальчика-шалуна».
— Тебя звать-то как?
— Аня. Анна.
— Анюта, значит. Это ты правильно придумала насчет бритья.
Тот, что промедол просил, уже раскладывал на тумбочке жестяную мисочку, тюбик с кремом, безопасную бритву, положил белый мутный камешек.
— А меня Ильей зовут, как пророка. — Ухватившись за прутья спинки тонкими серыми руками, подтянулся, чтоб сесть, и сразу скривился болезненно: — Болит, зараза.
Я подложила ему под спину подушку.
— Видала, как меня с одного края укоротили? — кивнул на одеяло.
Изо рта у него плохо пахло, но мне не стало противно, как не было противно с Агафоновым. У него тоже иногда вдруг так бывало, но меня не отвращало, только боялась, что другие слышат, и было жалко Агафонова, как всегда жалко человека, которым брезгуют за глаза.
— Меня теперь из-за стены продавать надо, — сообщил соседям Илья и засмеялся хрипло.
Он сразу понял, что брить не умею, но только подмигнул: не робей, мол. Откидывал голову, подставляя шею и подбородок. Я скребла усердно и неумело, а за спиной обсуждали, хорошо ли сделана ему операция и положено ли культе так сильно болеть. Разделились на два лагеря. Один говорил, что раз операцию делал «сам», значит, повезло здорово и боли пройдут скоро, но любитель промедола возражал: «Сам-то сам, но в конвертике не получил ничего и потому не старался, а так — тяп-ляп, лишь бы отделаться, а если бы получил в конвертике, то, может, и не резал бы так высоко. Теперь протез крепить трудно будет».
Илья хотел что-то возразить, но бритва подступала ко рту, и, чтоб помочь мне, втянул губы, выпукло выпятив горбик под носом.
Обсуждалась теперь сумма, которую нужно было положить в конвертик. Промедольщик назвал двести. Сидел на подоконнике, загораживая мне свет, но следил зорко, нет ли порезов. Слава Богу, обошлось, и, когда закончила, тотчас слез с подоконника, продолжая спорить, сходил за одеколоном.
— Не берет, не берет. У тебя, голоштанного, не берет, потому что взять нечего, а у кого нужно — берет. Правда, Илья? — Протянул мне бутылку.
Илья не ответил. Серое поползло от шеи вверх, стирая чуть порозовевшее от бритья, глаза остановились, и раек вдруг поплыл под веко.
Одеколон лился на простыню, запах хвои, зеленое пятно.
— Ты чего! — промедольщик отнял одеколон. — Чего застыла, сделай что-нибудь, больно же человеку.
— M-м, — мычал Илья.
Я выскочила в коридор, бегом к процедурной, дверь раскрыта — и никого. Скайдрите ушла обедать. Рванулась к шкафчику, висящему на стене. Он заперт. Скайдрите хорошо знает правила. Но в другом, со стеклянными стеклами, в картонной коробочке: красавка, белладонна, крушина, Господи, сколько всяких лекарств. Панкреатин, викалин, альмагель — не то, не то. Анальгин.