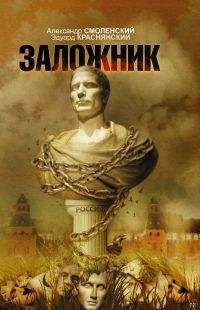Эйтан Финкельштейн - Пастухи фараона
— Ах, господа, — воскликнул Богров, — о чем вы говорите! Зло не в одежде и даже не в языке. Оно в самой синагоге. Синагога давно превращена у нас в неприличное торжище, в вертеп неопрятности, где каждый уголок отдает копотью и табачным дымом, где нельзя присесть, чтобы не выпачкаться. А эти невежественные хазоним[61], которые на мотив какой-нибудь плясовой исполняют высокие гимны, смысла которых не понимают! Даже само отправление молитвы в наших синагогах происходит без системы, сопровождается криками, рукоплесканием, то и дело прерывается громогласным «ша!» и стучанием по столам.
— Верно, верно, — подхватил хозяин, — наша синагога ничуть не похожа на место, где должно прославлять могущество Всевышнего и возносить молитвы о долголетии нашего обожаемого монарха, императора Александра Николаевича.
— С Божьей помощью, — включился в разговор рабби Швабахер, — в нашей Бродской синагоге мы ввели иной порядок. Молитва у нас сопровождается мелодическим пением, во время богослужения царит глубокое молчание, прихожане непременно одеты во все лучшее. Это ли не пример для подражания?
— Пример? Для кого? — решился вставить слово молодой Смоленскин. — Бродская синагога для избранных, для тех, кто во фраках. А ведь наша народная масса бедна и невежественна. Наши люди готовы пасть ниц перед дедовским кафтаном, но разорвут в клочья каждого, кто сбреет бороду или наденет костюм европейского покроя.
— И еще, — добавил Богров, — позвольте заметить, что и в Бродской синагоге служба идет с теми же бесчисленными обрядами, по правилам и указаниям, внесенным в разное время разными «авторитетами». И ваши прихожане обязаны соблюдать бесконечные посты и запреты.
— Нет, нет, господа, не в том суть, — вскочив со стула, Рабинович начал расхаживать по комнате. — Конечно, следует отбросить мелочную обрядность, но главное — перейти на русский язык. Мы должны перевести Библию и молитвенники на русский язык, в реформированной синагоге мы должны говорить по-русски.
— Если мне позволено вмешаться в этот горячий спор, — рабби Швабахер легко поднялся со стула, — то хочу напомнить вам, что некогда, до изгнания из Испании, мы шли впереди других народов, показывая им путь к Храму разума. А теперь? Бесчисленные предписания и запреты сковали наш разум, мы замкнулись в самих себе и прошли мимо умственного движения других народов. Мы должны наверстать упущенное.
— Господа, вы словно слепые, — Пинскер стукнул по столу кулаками. — Вы не хотите замечать, что картина нашей жизни меняется, что давняя борьба света с тьмой приносит свои плоды. Посмотрите, с какой скоростью гимназии и университеты наполняются еврейскими юношами. А питомцы раввинских училищ? Они сегодня совсем не те, что в прошлом; они одинаково владеют нашим древним языком и русской речью, они сведущи в Писании и светской литературе. Или наша печать. Разве еще недавно были у нас журналы, готовые бороться против собственного невежества и одновременно отстаивать интересы народа перед лицом русского общества? Взять хотя бы ваш «Рассвет», Осип Ааронович. Это же чудо — еврейский журнал на русском языке! Не удивлюсь, если ваше детище принесет больше пользы, чем усилия нашего Общества. Вы не согласны?
Все повернулись в сторону Смоленскина, который нервно ерзал на стуле, давая понять, что хочет вставить слово.
— Весь мой опыт, господа, — робко начал молодой человек, — с того самого времени, когда я ел дни в ешиботе[62] Шклова, все мои многочисленные скитания по местечкам и домам цадиков убеждают меня в необходимости борьбы с фанатизмом, невежеством и, прежде всего, с каббалой, этой родоначальницей всех наших суеверий. Мы неустанно должны призывать к свободе мысли и слова. Но в то же время я убежден, что проповедь религиозной реформы, исходящая из образованных кругов, к религии равнодушных, до народной массы не дойдет.
— Позвольте, мой друг, а разве не в образованных кругах Берлина зародилась Гаскала, проникшая ныне в толщу немецкого еврейства? — с искренним удивлением спросил Швабахер.
— По-вашему, получается, — Рабинович подошел вплотную к Смоленскину, — что наши усилия напрасны, что народной массе суждено вечно прозябать в невежестве и суеверии?
— Я только хотел сказать, что эволюция религиозного быта не может быть достигнута усилиями со стороны. Она может явиться лишь продуктом изменяющегося сознания религиозной массы. Религиозные реформы по немецкому образцу для русского еврейства губительны. Выхолащивая из религии все национальное, они посягают на наш язык и на мессианский идеал возрождения. Давайте отречемся от ошибочного представления, будто еврейство сохранилось благодаря религии — она сама продукт национального самосохранения.
— О чем это вы, молодой человек? — оборвал Смоленскина Богров. — О каких мифических идеалах возрождения должны мы думать, когда наша главная цель — просвещение народа, сближение его с народом русским, включение его в семью…
— Я убежден, — твердо продолжил Смоленскин, — что мы не должны идти по пути берлинского лжепросвещения. Ваш кумир Мойзес Мендельсон смотрит на еврейство как на религию дела. Но мы религия веры, и следует делать различие между национальным духом и религиозной обрядностью. Можно сколь угодно реформировать обрядовую сторону, но если мы начнем выхолащивать из нашей религии национальный дух, мы рискуем тем, что трупы просвещения будут столь же многочисленны, что и жертвы невежества.
— Нет уж, молодой человек, извольте ответить, что именно вы имеете в виду под словом «возрождение»?
— Духовно-политическое возрождение народа на его древней родине.
— Ах, вот вы о чем! Подумайте, господа, даже лучшие наши сыны поражены химерическими идеями палестинофильства. Как можно принимать к действию ветхозаветные призывы, писанные по какому-то поводу две тысячи лет назад? Да окиньте взглядом наши города и местечки! Только в Российской империи вы насчитаете четыре миллиона человек, что едва способны прокормиться в наших сытых краях. А еще тысячи и тысячи соплеменников живут на германских и французских землях. А еще тысячи евреев Востока. И всех их вы хотите перенести на негодный для проживания, а оттого и необитаемый клочок земли, которого и на карте-то различить невозможно? Право, надо быть маньяком, чтоб думать об этом всерьез.
— Ну, а по вашему мнению, Григорий Исаакович, к чему должны привести реформы? Какими вы видите плоды просвещения?
— Мы должны привести народ к эмансипированному космополитизму.
— Который обнаруживает явный наклон к обрусению? — съязвил Смоленскин.
— Не стоит иронизировать, молодой человек, возможно, в этом и состоит божественный замысел. Во всяком случае, если предназначение наше слиться с русским народом, то и быть по сему Чем следовать вашим безумным советам, лучше уж переправиться на другой берег, где нам улыбаются другие симпатии и идеалы. Должен честно признаться, господа, лишь безвинные страдания соплеменников удерживают меня от этого шага.
— Да Бог с вами, уж не о крещении ли вы говорите?
Все замолчали. Наступила долгая пауза.
— Только не это, — с дрожью в голосе начал рабби Швабахер. — Вы можете думать, что религия сохранила нацию или что нация сохранила религию, но, как бы там ни было, они вместе вдохнули в вас жизнь, дали вам язык, мораль, культуру. Крещение — это обрыв жизненных корней, это потеря личности…
Последние слова рабби Швабахера потонули в оглушительном грохоте. Сила его была такова, словно разверзлись кущи небесные или треснула твердь земная. Через минуту грохот начал слабеть, слышался лишь звон осыпающегося стекла.
Первым пришел в себя доктор Пинскер.
— Это в гостиной, не потолок ли обвалился?
Бледные, перепуганные гости устремились в гостиную. Битое стекло, обломки оконной рамы, недопитая бутылка пейсаховки, рюмки, подсвечники, картины со стен грудой лежали на полу, а посреди этого устрашающего пейзажа торчал здоровенный камень. Под покровом темно-красных облаков, затянувших небо, по улицам Одессы шел пасхальный погром.
Post scriptumОсип Рабинович, споткнувшись о камень просвещения, — детище его, первый русско-еврейский журнал «Рассвет», вынужден был закрыться, — опустил руки и усомнился, хороша ли была поставленная им прежде цель. В последнем своем рассказе «История о том, как реб Хаим-Шулем Фейгис путешествовал из Кишинева в Одессу» Рабинович, ярый противник старого быта, с любовью пишет о маленьких и смешных обитателях ненавистных ему прежде местечек. Всеми забытый, он преждевременно умер на чужбине, но его герой Хаим-Шулем Фейгис под именем Менахем-Мендел перекочевал на страницы рассказов и повестей другого Рабиновича — Шолома, и сделал литературный псевдоним последнего — «Шолом-Алейхем» — известным далеко за пределами еврейского мира.