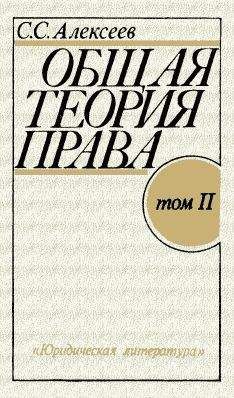Мюриель Барбери - Элегантность ёжика
Сначала ждали в роскошной приемной, заваленной старыми и новыми журналами: «Гео» десятилетней давности и последний номер «Эль» на видном месте. Наконец д-р Т. явился. Очень похожий на свою фотографию (в одном журнале, который мама гордо всем показывает), но живьем, с добавлением цвета (каштанового) и запаха (трубочного табака). Вальяжный мужчина лет пятидесяти, лощеный, с ухоженными волосами, небольшой бородкой; все в нем и на нем сплошь каштановое: кожа (сейшельский загар), свитер, брюки, ботинки, ремешок часов — все одного и того же оттенка самого что ни на есть натурального каштана. Или сухих листьев. Аромат дорогого табака (мед и вяленые фрукты) дополняет эту гамму. Что ж, подумала я, проведем сеанс в осенних тонах, беседу у камелька в узком кругу, утонченную, конструктивную, этакую, можно сказать, шелковистую (мое любимое словечко) беседу.
Мама зашла в кабинет вместе со мной, мы с ней сели на стулья перед письменным столом, а док — по его другую сторону, в вертящееся кресло с причудливым подголовником, как в «Star Trek». Он сложил руки на животе, посмотрел на нас и сказал: «Приятно видеть вас обеих».
Начало — хуже некуда. Я с ходу разозлилась. Так мог бы сказать какой-нибудь продавец из супермаркета, довольный случаем продать зубные щетки с двойной головкой мамаше с дочкой, выкатившимся из своего «кадиллака», но уж никак не психолог. Однако злость так же быстро прошла — я вдруг заметила потрясающую вещь, как раз для моего «Дневника всемирного движения». Сначала не поверила себе — не может быть! — вгляделась пристальнее, стала следить и убедилась: в самом деле! Так оно и есть! Невероятно! Я была так захвачена наблюдением, что еле слышала мамины жалобы (наша дочь от всех прячется, наша дочь пугает нас, говорит, что слышит голоса, наша дочь с нами не разговаривает, мы очень беспокоимся за нашу дочь — раз сто повторила она эту «нашу дочь», хоть я сидела в полшаге от нее), а когда ко мне обратился доктор, подскочила от неожиданности.
Дело вот в чем. Д-р Т., конечно, был живой — я видела, как он вошел, сел в кресло, слышала, как он говорил. Но, не считая этого, он вполне мог сойти за мертвого, потому что совсем не шевелился. Как сел в свое огромное кресло, так и застыл, двигались одни губы, да и то еле-еле. Все остальное было совершенно неподвижно. Обычно, когда говоришь, шевелятся не только губы, невольно делаешь и другие движения: работают мускулы лица, легонько двигаются руки, шея, плечи, и даже когда молчишь, трудно сохранять полную неподвижность, нет-нет что-нибудь где-нибудь дрогнет, то моргнешь, то ногу переставишь и т. д.
А тут — ничего! Nada! Wallou! Nothing![17] Живая статуя! Вот это да! «И что вы, барышня, на все это скажете?» — спросил меня д-р Т., тут-то я и подскочила. Но сразу ответить не смогла — слишком была поглощена наблюдением за ним, понадобилось какое-то время, чтобы переключиться. Мама ерзала на стуле, как будто у нее был геморрой, зато док глядел на меня не мигая. «Я заставлю, заставлю его пошевелиться. Что-то же должно его пронять!» — подумала я и заявила: «Я буду говорить только в присутствии моего адвоката», — в надежде, что это подействует. Ничего подобного — статуя не шелохнулась. Мама, та вздохнула, как великомученица, а док — хоть бы хны. «Твоего адвоката… хмм…» — процедил он без единого движения. Меня разобрало не на шутку. Шевельнется — не шевельнется? Я решила бросить в бой все силы. «Но здесь не суд, — добавил док. — Ты и сама это знаешь… хм…» Игра стоила свеч: если я заставлю его шевельнуться, то день пройдет недаром! «Милая Соланж, — проговорила статуя, — я хотел бы поговорить с девочкой наедине». Милая Соланж встала, посмотрела на него, как слезливый спаниель, и пошла в двери, делая много лишних движений (наверно, для компенсации).
«Мама очень тревожится за тебя», — начал док. Он превзошел себя: не шевелил даже нижней губой. Поразмыслив, я поняла, что прямая провокация вряд ли что-то даст. Хотите, чтобы ваш психоаналитик почувствовал себя во всеоружии? Тогда провоцируйте его, как подросток своих родителей. Поэтому я выбрала серьезный тон: «Вы считаете, это как-то связано с форклюзией Имени Отца?» Думаете, это заставило его шевельнуться? Ошибаетесь.
Он остался неподвижным и невозмутимым. Однако же в глазах его, мне показалось, пробежала легкая рябь. И я решила разрабатывать эту жилу. «Хм? — отозвался док. — Вряд ли ты понимаешь, что говоришь». — «Еще как понимаю! Впрочем, кое-что у Лакана мне действительно не совсем ясно: например, его отношения со структурализмом». Док приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но я его опередила: «Да, и вот еще матемы. Это так сложно — все эти узлы. А вы-то сами что-нибудь смыслите в лакановской топологии? Ведь, кажется, все давно уже сошлись на том, что это сплошное мошенничество?» Тут я заметила некоторый прогресс: он не успел закрыть рот и остался сидеть с отвисшей челюстью. Но скоро овладел собой, и на его лице утвердилось статическое выражение, словно говорившее: «Ну-ну, голубушка, значит, ты хочешь поиграть со мной в такую игру?» Да, мороженый каштанище, я хочу поиграть с тобой в такую игру. Я сделала паузу и дала ему ответить. «Я знаю, что ты очень умная девочка, — сказал он (ценная информация, полученная от милой Соланж по цене шестьдесят евро за полчаса). — Но можно быть очень умной и все же несчастной. Многое понимать и все же страдать». Глубокая мысль! Где ты ее вычитал: случайно, не в «Пиф-гаджете»[18]? — чуть не спросила я. Мне вдруг неудержимо захотелось поговорить с этим типом иначе. Как-никак, он обходился моей семье в шестьсот евро в месяц на протяжении десяти лет, а результат налицо: пациентка каждый день по три часа опрыскивает комнатные растения и заглатывает бешеное количество патентованных лекарств. У меня застучало в висках, я наклонилась над столом и прошипела: «Послушай, ты, замороженный продукт, давай заключим небольшую сделку. Ты оставишь меня в покое, а я за это не стану распускать о тебе гнусные слухи на весь деловой и дипломатический Париж, иначе тебе придется закрывать свою лавочку. И если ты действительно знаешь, какая я умная, то должен понять, что мне это вполне под силу». Честно говоря, на успех я не рассчитывала. У меня и в мыслях не было, что такая штука может сработать. Надо же быть полным олухом, чтобы принять всерьез такую чушь. И однако — невероятное свершилось, победа! Добрейший доктор Тейд изменился в лице. Кажется, он поверил! Какая дичь — если есть на свете что-то, чего бы я никогда не могла сделать, так это оклеветать кого-то, чтобы ему навредить. Папа-республиканец заразил меня вирусом честности, и я, сколько бы ни считала это понятие таким же нелепым, как все прочие установки, строго придерживаюсь усвоенных правил. Но бедный док, у которого перед глазами была только мама, чтобы составить представление обо всем семействе, счел угрозу реальной. И, о чудо, шевельнулся! Он щелкнул языком, разнял руки, протянул вперед ладонь и хлопнул ею о замшевый подлокотник. Жест отчаяния и одновременно устрашения. Затем он встал — причем от его любезности и доброжелательности не осталось и следа, — подошел к двери, позвал маму, что-то наплел ей: дескать, я психически здорова, все будет в порядке, и шли бы вы куда подальше от моего осеннего камелька.
Сначала я была горда собой. Заставила-таки его шевельнуться! Но чем ближе к вечеру, тем горше становилось на душе. Потому что это его движение проявило только гадость и мерзость. Конечно, я отлично знаю, что взрослые нередко прикрывают масками добряков да мудрецов свою жестокость и уродство; знаю, что эти маски падают, стоит только их подцепить, — но уж очень гадко, когда это происходит так резко. Давешний хлопок по подлокотнику означал: «Отлично, раз ты видишь меня таким, каков я есть, бесполезно ломать комедию, сделка так сделка, черт с тобой, и вали отсюда поскорее!» Противно, ужасно противно. Мне достаточно знать, что мир безобразен, и вовсе не хочется еще и видеть это воочию.
Уйти, уйти из этого мира, где, что ни шевельни, найдешь одно уродство.
12
Луч надежды
Кому бы укорять феноменологов за их аутизм и отрыв от живого кота, но не мне, посвятившей всю жизнь погоне за непреходящим.
Но кто ищет вечное, обретает одиночество.
— Да, — ответил мне хозяин дома. — Я тоже так думаю. На редкость непритязательный, но гармоничный.
У месье Одзу очень красиво и просторно. Рассказы Мануэлы уже подготовили меня к тому, что я увижу японский интерьер, и действительно, здесь есть и раздвижные двери, и деревца-бонсай, и толстый черный ковер с серой каймой, и много азиатских вещей: темный лаковый столик на низких ножках, бамбуковые шторы на впечатляющем ряде окон, каждая задернута по-своему, а все вместе придают комнате восточный колорит, — но есть и вполне европейские кресла, канапе, консоли, лампы и книжные полки. Все очень… элегантно. И, как правильно заметили Мануэла и Жасента Розен, никаких излишеств. Правда, не настолько пусто и строго, как я думала, пытаясь представить себе интерьеры из фильмов Одзу в более роскошном исполнении, но чувствуется тот же лаконизм, свойственный этой удивительной культуре.