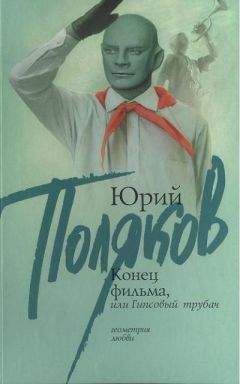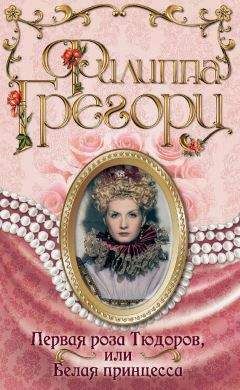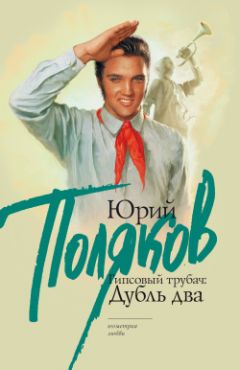Юрий Поляков - Гипсовый трубач
— Вот, понимаешь… Андрюх… такое дело… — с трудом вымолвил одноклассник. — Быстро вы доехали!
— И что нам делать? — спросила Нинка.
— Рентген… Я позвоню — чтобы без очереди… Подожди, направление выпишу… — Он взял дрожащими руками бланк.
Плетясь по коридору следом за одноклассницей, Кокотов смотрел на встречных пациентов. Как и в прошлый раз, одни пришли сюда, чтобы улучшить и без того хорошее здоровье и развеять пустяковые сомнения. На бледных лицах других мерцал, сменяясь надеждой, ужас осознанного диагноза. Третьи ничему уже не верили, приняв как данность свое скорое исчезновения и храня в себе тайну этого невозможного примирения. Андрей Львович вдруг понял, что несколько дней назад он принадлежал к первой, безмятежной, категории, сегодня вдруг очутился во второй, а скоро, возможно, окажется в третьей — безнадежной…
— Нинка! — вскрикнул он.
— Что?
— Я же не натощак…
— Для. Рентгена. Не важно.
…Писодей вернулся с уличной прохлады в тепло комнаты и вдруг, как будто впервые, увидел на стенах зеленые квадраты и прямоугольники, оставшиеся на выцветших салатовых обоях от картинок и фотографий. Они исчезли вместе с умершим народным артистом, который жил в этой комнате прежде. Как его звали? Андрей Львович даже не поинтересовался у Жарынина. А ведь народный артист был — не «кушать подано!», не бомж какой-нибудь… Вот так и о нем, Кокотове, никто не спросит: жил да съехал!
Он лег на кровать и стал думать о том, что есть смерть. Сон без снов? Сон с видениями? Радикальное отсутствие в мире, вроде глубокого обморока, случившегося с ним в третьем классе у доски? Ты вдруг совершенно, без остатка исчезаешь, а потом снова возникаешь в мире, когда в нос тебе суют пузырек с нашатырем. Как же тогда испугалась Ада Марковна! Она потом полгода не кричала на Кокотова, если тот мямлил и путался в ответе. Может, и переселение в мир иной происходит так же? От нашатырного толчка мозг просыпается, ты открываешь глаза, а над тобой заботливо склонился ангел с крыльями: ну, мол, как долетели? Или — черт с рогами: ну, мол, как докатились?
Нет, что-то не так! Андрей Львович заметил: он размышляет о своей смерти как о смерти знакомого, близкого, но все-таки другого человека, который умрет, а он, Кокотов, останется на свете. И при чем тут черти с ангелами? Ведь там, за последним вздохом, за последним ударом сердца, за последней мысленной судорогой нет ничего, кроме твоего отсутствия. И в этом весь ужас! Если бы все было так, как фантазировал Жарынин, если бы по ту сторону можно было бесконечно переделывать, исправлять, улучшать прожитую жизнь, переписывать как синопсис! Если бы…
А что бы он переписал в первую очередь? В самую первую! Наверное, не стал бы разводиться с Еленой. В конце концов, что дала ему свобода? Эсхатологические ягодицы Лорины Похитоновой? Измену Вероники? Семнадцать романов из серии «Лабиринты страсти», упрятанные, как под надгробием, под псевдонимом Аннабель Ли?.. Вот, в сущности, и все. Правда, есть еще Наталья Павловна, но теперь это уже не важно. Андрей Львович поискал в себе хоть чуточку вожделения и не нашел. Автор «Беса наготы» на миг вообразил свое тело в разгоряченных, требовательных объятьях бывшей пионерки и почувствовал в сердце тянущую тоску, как тогда, в рентгеновском кабинете, зажатый холодными тисками проницательного агрегата…
— Головку смотреть будем? — ласково уточнила медсестра, пригласив «больного Кокотова» без очереди.
— Голову, — вместо одноклассника ответила Валюшкина.
— Подбородочек уприте! Вдохнуть и не дышать! — Аппарат громко клацнул. — Вот и все! — сказала медсестра, унося кассеты в боковую комнату.
…А что он потерял от развода? Все: Елену, которая никогда бы его не предала, дочь, радующуюся теперь, что у него, как и у матери, рак. Ну хорошо, допустим, разошлись… Федька Мреев вон четыре раза сбегался-разбегался. В молодости все разводятся, ищут, постельничают. Но нельзя было отдавать Настю, надо было ее видеть, воспитывать, одаривать, любить! Писодей вообразил, как он бережно ведет по «Аптекарскому огороду» маленькую большеглазую девочку, вцепившуюся в его отцовскую руку, как они стоят на мостике и кормят хлебными крошками оранжевые тени золотых рыбок. Кстати, воскресного папашу всегда можно узнать в городской толпе: он слишком внимателен к ребенку, всем своим видом доказывает прохожим: это мое, мое, мое! На глупые детские вопросы, от которых обычные родители сердито отмахиваются, он отвечает раздумчиво, подробно, даже занудно, гордясь своими невостребованным педагогическим талантом: «Видишь ли, доченька…» Впрочем, детские вопросы не всегда глупы. Например такой: «А я тоже умру?»
Сам Кокотов спросил об этом мать, когда ему было лет семь. В соседнем дворе, через улицу, хоронили пожилую женщину. За панельными восьмиэтажками, в глубине квартала, уцелели старые потемневшие избы, крытые крашеным железом, окруженные палисадниками с сиренью и даже огородами с весело цветущей картошкой. Поэтому и похороны были не городские: приехали, забрали, увезли, зарыли, — а настоящие, деревенские. Гроб, обтянутый красной материей в оборочку, стоял на табуретах посреди двора, кругом толпились, прощаясь с покойницей, соседи и любопытные. Двор-то был проходной. Она лежала вся в белом. Маленький Кокотов внимательно слушал взрослые перешептывания о том, что усопшую хоронят в свадебном платье, которое не пригодилось, так как жениха забрали на войну, где он пропал без вести. И все бы ничего: отплакала бы, как остальные, и сошлась с другим, но кто-то из дворовых фронтовиков-инвалидов то ли по доброте душевной, то ли желая выпить на дармовщинку, сболтнул, будто видел жениха живым в госпитале. И невесту замкнуло. Намертво. Навсегда. Она никого больше не слушала, ждала, верила, замуж не вышла, старилась, болела и перед смертью завещала похоронить ее в свадебном наряде. Просунувшись меж взрослыми, Андрей приблизился к гробу и рассмотрел синеватое, как накрахмленное белье, лицо умершей — с запавшими глазами, разочарованно ослабшим ртом и носом, похожим на клювик. А ведь Кокотов помнил ее живой, она по выходным сидела на лавочке со старухами и провожала его дотошным взглядом, когда он бежал к Понявину в гости — в барак…
— Говорят, целкой умерла… — послышался мужской шепот.
— Да-а, честное было поколение!
Вообще-то «целкой» называлось такое положение фантиков во время игры, когда один квадратик, сложенный из конфетной обертки, едва касался другого. Если удавалось загнать свой фантик под фантик соперника, это был выигрыш — «подка». А «целка» как бы не считалась. Но рано озаботившийся Борька Рашмаджанов уверял, будто это слово имеет еще одно, стыдное значение, относящееся к ночным родительским шорохам и вздохам. Вот, оказывается, почему, когда во время перемены мальчишки играли на подоконнике в фантики и орали, обсуждая спорные моменты: «Целка! Нет, подка!» — учительницы как-то странно на них оглядывались, а молоденькая географиня даже краснела…