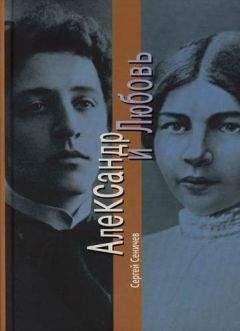Сергей Сеничев - Лёлита или роман про Ё
Вот ведь правда: девчонка готовилась, удивить хотела, а ты…
— Лёльк! — виновато окликнул я. — Я же без задней мысли…
— Ну и дурак, — фыркнула она с крыльца.
Или померещилось? Или я как Дед уже — считал это с крутого, самим же обкромсанного затылка?..
Ладно, отношения выяснять после будем. А теперь в баню! Баня парит, баня правит, баня всё исправит.
И почапал к дымящей трубою халабуде на бережку.
Тим выскочил из неё как дожидался — розовый и пушистый. В смысле лохматый и распаренный. В дядькиной джинсовке поверх солдатских рубахи с кальсонами:
— А-а-а! Проснулся? Давай ополоснись по-быстрому. Лёлька там пир соорудила.
— Да знаю я…
— Только заслонку не задвигай, я дров подбросил: остывать стала, пока ты там…
— Ну продрых я, продрых и чего теперь?!
— Да продрых и продрых. Как будто тебя кто не понимает. Парься вон давай.
И направился к дому.
Сговорились они, что ли? Одна дверьми хлопает, другой строит на каждом шагу. Если и он щас дураком обзовёт, точно заслонку задвину!
И ссуглобился и двинул в предбанник. Снял с себя заношенную униформу. Заметил на лавчонке стопку чистого — Дедова, надо думать, белья.
И-ди-от! За тобой как за детёнышем, а ты… Чего несёшь-то? Кто сговорился? Тебе приём и комфорт весь день готовили, так нет: ты, старый прыщ, ещё и докапываешься…
Правит, говоришь, баня? Ну, щас поглядим.
В парилке было ядрёно и даже сизо от жара. Каменка с чаном бурлящего кипятку. Невысокие полати. В шайке веничек томится — дубовый по духу. У стены ведро холодной. Всё Тимка предусмотрел.
Ну и айда! И поддал на камни…
Я хлестал себя беспощадней должного. Было в этом профилактическом унд наслажденческом действе что-то от флагелляции: справляя удовольствие, попутно наказать себя за тупость непролазную.
Однако наслажденческое взяло-таки верх, и вскоре я уже лупил себя — по спине, по заднице, по ляжкам, плечам, груди, животу и снова по спине — смачно, с оттяжечкой и даже вскрикивая от блаженства. После чего как угорелый (естественно, не, но — как) выскочил наружу с распаренной жопой, не задумываясь, видно меня из дому или нет.
Тут, разлюбезные читательницы, миль пардон: разумеется, следовало сказать с нагим красным задом. Или с неприкрытым исхлёстанным филеем. В крайнем случае, с источающими пар голыми ягодицами. Но баня не музей античной скульптуры — из неё выскакивают именно с голой жопой! О тургеневских барышнях — извольте, тургеневским языком поверещу, и о бунинских молодицах из аллей сдержусь, лишку не позволю, но про собственные взопревшие приватности — тысяча извинений, язык иначе не поворачивается: тут уж с голой жэ!
Выскочил, значит, и к обрывчику.
Ну да, да, октябрь, но из пару сам Суворов, или кто там, велели. В последний момент хватило ума не нырять, а солдатиком. И слава богу: всей глубины — метр. Ужо был бы вам, дети, ужин за упокой, вместо банкета, а так обошлось, пятки только малость отшиб…
Дно — песочек, оттолкнулся, взметнулся над водой по самые причиндалы — холоднющая ж! — шлёпнулся на неё с кряком да со всей дури и поплыл, поплы-ы-ыл большими гребками… А теперь на спину. Клёво? Ещё бы не клёво! Ну и будя, нефиг сердчишко-то испытывать. Но — харрашооооо!..
Вскарабкался, стуча зубами, на бережок и назад, в жар, отогреваться да мочалом — настоящим, господа, мочалом, а не плетёнкой синтетической себя шкребсти…
Из бани я вышел младенцем новорождённым. Освободившись от кило шкуры и доброго десятка лет. В бэушном исподнем и некогда модельных туфлях на босу ногу.
Меж тем завечерело. С самого что ни на есть легонца.
Отражавшее озеро небушко потихоньку сливалось с лесом за. Подозрительно примолкший, тот напоминал фашиста в ночь на 22 июня — вероломного и давно готового к атаке… Вы не поверите, до чего приятно было тешиться иллюзией, что от этого гадского леса ты теперь отделён защитной водополосой. Что он, подлюка, будто бы теперь и не вокруг вовсе, а там весь, за подмогой-озером — изгнанный и приструнённый. Стоит, облизывается, а броду не разумеет…
Я заозирался и тут же обнаружил её — бабкину могилку. Даже в полутьме свежий холмик отчётливо проглядывался на верхотуре бережка. На, так сказать, юру.
Смутило, что из него не торчало хоть какого-ни-есть, пусть даже из пары прутиков, креста. Не по-божески как-то, дедун!
Нет: а кому пеняю-то? Доволок же — и то молодца. До памятных ли знаков было ему, малосильному? Да и времени, видать, просто не хватило, когда он её прикопал? — вчера, позавчера? Он же говорил… Ну да, говорил. Он много чего говорит, а ты, дурья башка, слушаешь вполуха, а его надо во все шесть!.. Ладно, завтра сам предложусь. Ножовка-то с рубанком да пара гвоздей у него край найдутся…
И потрусил к дому — на расправу и посрамление.
Разумеется, они дотерпели.
Правда, сидели за столом как на партсобрании — молча и каждый о своём. Тим пощипывал хлеб (хлеб!). Лёлька бросила на меня кинжальный взгляд и без единого звука стала разливать по мискам варево из дымящегося чугунка. Не соврал Дед — пахло так, что покойница и впрямь, наверное, гордилась сменщицей.
Сменщица дулась что та мышь. Я не препятствовал: сама понять должна — на настоящий бойкот ваш покорный нынче не набедокурил. Посему волос на голове не драл, ворота на груди не рвал — поблагодарил за организованные водные процедуры, пожелал приятного аппетиту, и наворачивал за обе щёки, разглядывая помещение.
А интерьерец был куда как любопытный…
Изнутри домик оказался просторней, чем при наружной оценке. Впечатлили уже долгие сени, больше похожие на склад средней руки сельпо: мешки — с мукой, крупой, сахаром и солью, тюки какие-то, ящики, пакеты… Горница же — квадратная, метров шесть на шесть, о трёх окнах — была приспособлена исключительно для житья. Посередине печь русская с той самой занавесочкой. За печкой как бы столовая, где мы и расположились. В одном углу по входу громадный старинный буфет ручной работы. С другой стороны заявленный сундук. Только не сундук — сундучище, набитый, как следовало из дедовых россказней, бабкиным гардеробом и боезапасом. В дальнем левом углу стояла допотопная же железная кровать с латунными шарами по спинкам, а вот в правом — красном — имелось… пианино. Самое настоящее пианино. Марки «Пенза», как выяснилось по снятию чехла. С пустым глиняным котом-копилкой на и махонькой табуреткой под. И это было уже чересчур.
Что? — тоже партизаны презентовали? Тащили к самолёту, да не влезло? Зачем оно здесь вообще? Или бабка зимними вечерами вытаскивала из недр сундука пронафталиненный палантин, облачалась в него, втыкала в волоса пластмассову розу и наяривала свому нвалиду Полонез Огиньского?