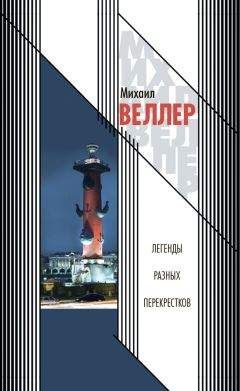Чарльз Буковски - Из блокнота в винных пятнах (сборник)
Тогда я все и бросил. Прекратил писать. Задрал лапки. Запил на десять лет. Снова обжился в Лос-Анджелесе. Работал столько, чтоб на жизнь хватало, едва. Пил столько, чтоб с собой покончить, почти. Стал великим ебарем всех шлюх на Альварадо-стрит.
Ну и так уж мне повезло, что нужно было познакомиться с самой красивой и неукротимой из них всех – Джейн, старомодное имя, но дикая полуирландка-полуиндеанка. Вся сплошь норов и безумие, но прекрасные ноги и задница, и что-то в ней такое было – какая-то душа, – а это значило, что почти все ею сказанное было сравнительно, к черту, важным, а жопки лучше ее никогда не существовало.
Не знаю, что в ней такое было на ложе любви. Наверное, эта тонкая смесь любви к этому занятию и ненависти к нему одновременно – никогда тебя за нос не водила – и наконец все сменялось окончательной и тотальной тебе уступкой. Помимо всего этого, у нее была просто отличная пизда.
Помню первый вечер, когда мы познакомились, я ушел с ней из бара. Большой Джонни, пробивной торгаш, сказал мне:
– Ее никто не приручит, Хэнк, но если кто-то и сможет, то один ты.
Она хорошо одевалась в дорогие тряпки, особенно туфли, и не похоже, чтоб от нее были неприятности. Я взял две квинты бурбона, кучу сигарет, и мы поехали на такси ко мне, где для разнообразия было сравнительно чисто. Некоторое время все шло неплохо. Я усадил ее на тахту, а она скрестила эти свои отличные ноги, и я с нею разговаривал, думал о том, как стану ее ебать, дал ей одну квинту бурбона, вторую оставил себе и сказал ей:
– Пей прямо из горла.
– Ты себя считаешь каким-то мистером Вандерпонтом, так?
– Да нет вообще-то. В дороге несладко пришлось.
– Чушь! Ты себя считаешь мистером Вандерпонтом!
Глаза у Джейн раскрылись очень широко. Она взяла свою квинту бурбона, подняла над головой.
– Постой! – сказал я.
– Что?
– Кинешь этого сукина сына – так постарайся в меня попасть и вырубить! Иначе он тебе в ответ прилетит. А я уж не промахнусь! Ну, теперь давай, кидай!
Она посмотрела на меня и поставила бутылку.
В ту ночь мы это сделали пару раз. Было очень хорошо.
А после сошлись лет на шесть-восемь в аду.
Я тут стараюсь излагать сжато, пересказывать самое главное, но как втиснуть сорок девять лет в четыре или пять тысяч слов? Поэтому я должен рассказать про эту Джейн всякое – вроде первой ночи, когда скакал на ней, остановился на полутолчке, спросил:
– Слушай, я не знаю, как тебя зовут! Как тебя зовут?
Ее ответ:
– Какая, к черту, разница?
Однажды ночью с моей Джейн, такой пьяный, что с кушетки рядом с ней падал, глядя на эти тонкие лодыжки на высоких каблуках, на эти икры, безупречные, эти безупречные колени, а она просто сидит. Я перепивал ее вдвое и только что свалился с кушетки. И лежа навзничь, глядя снизу на ее ноги, я произнес нетленку:
– Детка, я гений, и никто, кроме меня, этого не знает.
И она ответила нетленкой:
– Ох, да встань ты с пола и сядь, чертов дурень!
Настал день, и мне пришлось ее похоронить. Как отца. Как мать. Я похоронил ее через два года после того, как мы расстались.
Но до этого я загремел в благотворительную палату Окружной общей больницы Л.-А. (мой старый дом), и меня засунули в темный подвал, а бумаги мои потеряли.
– Документы, – сказала старшая медсестра, – отправили вниз, пока я была наверху. – Потому я и потерялся где-то там в подвальном Подполье, тело без документов, умирал, беспрестанно истекал кровью изо рта и жопы. Все это дешевое пойло и трудная жизнь выходили из меня наружу – фонтанами крови. Потом кто-то нашел мои бумаги, и через три дня в подвале меня подняли туда, где света побольше. Но тут выяснилось, что у меня нет кредита на кровь.
– Мистер Буковски, – сказала мне старшая медсестра, – если вы не установите себе кредит на кровь, вы не получите крови. – Это означало, что я умру.
Судя по всему, они для умирающих или больных делали одно – оставляли их валяться, пока не умрут. Я видел, как они отовсюду вокруг меня выволакивают мертвецов. Тогда у них освобождались места для новых тел. С местом была незадача. И ни медсестер, ни врачей. Даже практиканта увидеть – и то было чудом.
Затем они установили, что кредит на кровь есть у моего отца – он им разжился у себя на работе. Кроме того, я им всю палату пачкал своей кровью, и мне никак не удавалось умереть. Ангелом с неба явилась медсестра, воткнула мне в вену иголку, подвесила бутылку. Я принял тринадцать пинт крови и тринадцать глюкозы безостановочно.
Нашел себе место на Кингзли-драйве, устроился водить грузовик и купил старую пишущую машинку. И каждую ночь после работы напивался. Я не ел – только выстукивал восемь или десять стихов. Даже не знаю, как мне удалось отстукать рассказ. Я писал стихи, только не знал, почему. Как-то разнюхал про Дж. Б. Мэя и его журнал «Трейс», который тогда один как-то объединял возникающие маленькие журналы – он их каталогизировал. А «малыши» тогда были гораздо лучшими пастбищами для того малого количества хорошего и реалистического письма, что в ту пору создавалось. Теперь малыши изменились, материализовались в кучку деятелей с дешевыми мимеографами, которые превратились в свалку очень скверной литературы и поэзии. Маленькие и большие журналы теперь – на одной территории, и те и другие печатают всякую дрянь, а главная цель у них – известность, групповщина и деньги, любой, к черту, ценой. Конская жопа наконец-то встретилась с конским ртом и жрет свое же говно.
Я писал еще стихов, менял работы и женщин, похоронил Джейн, а после этого на меня стали обращать внимание. Появились поэтические брошюрки: «Цветок, кулак и зверский вой». «Гонки с загнанными». «Рисковые стишки для проигравшихся». Стиль мой был очень прост, и я говорил все, что хотел. Книжки распродавались сразу же. Меня понимали шлюхи Канзас-Сити и гарвардские профессора. Кто больше знает?
Все задвигалось быстро. Уит Бёрнетт сложил оружие. «Стори» настал конец. Новым великим редактором нашего времени стал Джон Эдгар Уэбб из «Луджон Пресс Букс», издатель журнала «Аутсайдер». Дальше мой снимок красовался на обложке «Аутсайдера» – избитая и драная рожа, а внутри – стихи и письма. Я стал новой поэтической концепцией – вдали от образованного и тщательного стихоплетства, я выкладывал все грубо. Некоторые это ненавидели, другие любили. Мне-то какое дело. Я лишь больше пил и писал больше стихов. Моя машинка служила мне пулеметом, и он был заряжен.
У нового великого редактора Джона Уэбба имелась тяга к изящно отпечатанным книжкам. Обе мои, «Оно ловит сердце мое в ладони» и «Распятие в омертвелой руке», напечатаны на бумаге, которая гарантированно протянет 2000 лет. Это пугает, знаете. Книги сразу же скупили собиратели, которые теперь запрашивают от 25 до 75 долларов за экземпляр, а мы с Уэббом сидим, заткнув себе жопы пальцами, и не знаем, откуда на нас свалится следующий дайм. Уэбб наконец отчаялся и опубликовал какие-то письма Генри Миллера художнику, французскому, если я ничего не путаю. Миллер-то кое-что писал отлично, но письма его как литература были не очень хороши. В общем, Уэбб сразу брал по 25 долларов за экземпляр. Теперь пусть коллекционеры об этом беспокоятся.