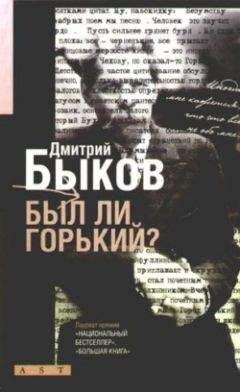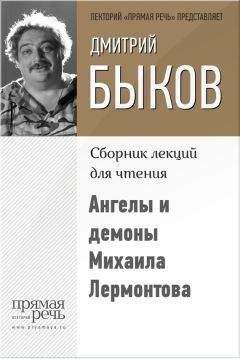Дмитрий Быков - Оправдание
Он не знал, сколько так просидел рядом со стариком — минуту ли, час ли. Из соседней избы вышла сгорбленная, подслеповатая старуха с темным ласковым лицом и принялась кормить кур, а потом снова скрылась в доме, успев, однако, пристально поглядеть на Рогова и улыбнуться ему, словно жданному гостю, который не мог не прийти, — и оттого слишком-то радоваться его появлению не обязательно. Вскоре вдали показалось небольшое, голов на девять, стадо, которое так же сосредоточенно и послушно, как все здесь, шло к избам, наплывая из медленно меркнущего солнечного сияния. За стадом, забросив кнут на плечо, шел невысокий пыльный пастух. Как и все деревенские пастухи, виданные Роговым в жизни (эта-то похожесть всего вокруг на его собственные представления и заставляла его потом думать, что Чистое ему только привиделось), этот шел в разбитых, рыжих от старости кирзачах, одет был в пузырястые штаны и латаный серый пиджак, а на голове носил серую парусиновую кепку. На вид ему было не меньше шестидесяти лет, во рту поблескивали железные зубы. Он смолил беломорину, но, подойдя к деревне, заплевал и выбросил ее. Загнав коров в длинный сарай на самом краю деревни (этот край Рогов назвал про себя степным в отличие от лесного), пастух зашел в небольшую, самую древнюю и хлипкую на вид избу и больше не показывался.
Девушка, которая все это время с чем-то возилась в избе, тоже вышла и села на крыльцо, и Рогов обрадовался ей. Она взяла его левую руку, долго рассматривала ладонь, словно собиралась гадать, но вместо этого только провела по ней легкими и ласковыми пальцами, так что он поморщился от щекотки. Улыбалась она при этом так, как улыбаются незлые, тихие дети, вечно думающие одну свою думу, но не обижающиеся, когда их отвлекают. Рогов вспомнил, где и когда видел такую улыбку.
Однажды, когда он был влюблен в студентку мединститута, она взяла его в загорский интернат для слепоглухонемых; были там и другие дети с врожденными патологиями, одна страдала каким-то странным заболеванием лобных долей мозга — они медленно разрушались без видимой причины. В детстве она еще запоминала стишки, участвовала в играх, но к началу отрочества почти совсем перестала реагировать на внешний мир. Воспитательница, водившая их по интернату, в котором Рогов, против обыкновения, не боялся уродов, а горячо жалел их, попросила его обратить особое внимание на тонкие, аристократические пальцы девочки, всю ее гибкую и длинную фигуру, на благостное и сосредоточенное выражение лица: трудно было поверить, что у этого ребенка нет никакой тайны, есть только тихая жизнь растения (хотя, возможно, жизнь растения и есть самая большая тайна — вот почему посмертный распад тела, превращение его в грязь, камни и траву обставляется в нашем сознании такой таинственностью и надеждой). Взгляд девочки, ни на минуту не фокусируясь, бродил по стенам. Она почти не чувствовала боли или холода, легко обходилась без прогулок, скоро должна была перестать самостоятельно ходить в уборную, — но обо всех этих страшных вещах Рогов, глядя на нее, не думал, а чувствовал только кротость и благость, исходящие от этого полурастительного существа. И это Чистое напоминало ему весь загорский интернат, потому что, когда он вместе с воспитательницей ходил по тому, тоже безмолвному, дому, он ощущал невероятно напряженное поле, словно дети, лишенные речи, непрерывно обменивались какой-то внесловесной информацией. Тут не говорили, тут ловили сигналы, — и точно так же, вспомнил он, его вдруг взял за руку глухонемой, но хорошо видящий мальчик лет восьми, который несся куда-то мимо и вдруг задержался, пристально посмотрел на Рогова и захотел с ним поздороваться. Что мальчик мог прочитать по его руке? Почему сразу отошел в сторону, погрустнел, постоял секунд десять и опрометью бросился обратно — туда, откуда только что прибежал? И какую невыразимо печальную правду поняла о нем эта девушка, долго вглядывавшаяся в его ладонь и погладившая ее словно в утешение?
Все вокруг жалело его: пыльное поле, опускавшееся солнце, бледная, но на глазах сгущавшаяся голубизна. Все вдруг стало туманным и бледно-синим, и в этом тумане, млечном, как синяя акварельная краска, разведенная в только что налитой из крана воде с еще не осевшей мутью, двигались неопасные, дружелюбные тени. Из домов выходили люди, тянулись к старику, который встал с крыльца и жестом позвал Рогова за собой. Старик снял с пузатого буфета керосиновую лампу, поставил ее на стол и засветил. Тотчас в теплом вечернем воздухе, воздухе последних теплых вечеров, закружились над столом бледнокрылые, белые и бежевые бабочки. Девушка достала из печи чугунок картошки (Рогов именно так и представлял себе никогда не виденный чугунок). В избу — видимо, посмотреть на гостя — сходились новые и новые люди, общим числом девять: Рогов разглядел старуху, кормившую кур, и еще двух, таких же древних, согбенных и ласковых. Последним пришел пастух, ему не хватило табуретки, и он встал в углу, около двери. Девушка не присаживалась ни на минуту, она хлопотала у стола, доставала миски, накладывала картошку и квашеную капусту, резала хлеб, потом бесшумно прошла к печке и встала, прислонившись к ней спиной.
Стол стоял у окна, и синий свет, медленно загустевая и темнея, падал на миски с картошкой, на глечик и хлеб. Полоса прохладного тумана протянулась между домом и лесом. Запахло землистой сыростью. Мотыльки неутомимо бились о лампу. Рогов сам не заметил, как возник в воздухе тягучий, высокий звук, похожий и на стон проводов, и на гудок далекого поезда, — такие звуки слышатся иногда ночами в степи. Он рос, то повышаясь, то понижаясь, и только когда это протяжное мычание подхватил второй голос, Рогов понял, что старики поют.
Это была песня без слов и как будто без мотива — или с мотивом настолько сложным, что непривычное ухо не могло его уловить. Невозможно было понять, ведет ли каждый свою отдельную партию потому, что не слышит других и не хочет подстраиваться к ним, или потому, что это так надо. Нет, понял Рогов, они слышат, иногда в плетении голосов возникало что-то похожее на диалог — один делал паузу, другой подхватывал, — но уловить фразировку было невозможно: ритм тоже либо отсутствовал, либо был слишком сложен и разнообразен, как непериодическая дробь. Старики, однако, мычали истово, вытягивая шеи, напрягая пальцы рук, сложенных на коленях, и глядя в окно, все в одну сторону и как будто даже в одну точку. Рогов не взялся бы определить, сколько времени это продолжалось. Уже совсем стемнело в степи, а они все не расходились: стон стихал, прерывался, певцы откашливались и сморкались, но начинали через минуту ровно с той же ноты, на которой смолкли. Молчала только девушка. Она стояла у печи не двигаясь, иногда только переводя ласкающий, нежный взгляд с одного лица на другое; скользили ее глаза и по Рогову.