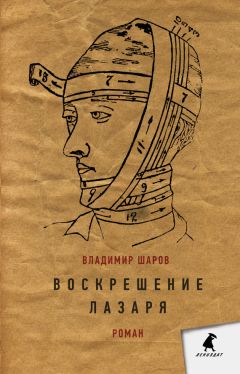Владимир Шаров - Репетиции
Вообще после постройки плотины отношение келаря к Сертану улучшается; теперь, когда уже вовсю шли репетиции и Феоктист понял, что работа не стоит, Сертан отнюдь не сидит без дела, не грабит монастырь и не даром ест свой хлеб, когда Феоктист так же, как и Никон, привык каждый день ходить вдоль вешек, обозначающих земной путь Спасителя, увидел, как и где из монастырской земли возникает другая земля, как бы рождается в ней и из нее, привык, что из этой им, келарем, руководимой земли медленно, шаг за шагом рождается Святая земля, из, в сущности, обыкновенной и простой русской земли — Святая земля, это было настоящее чудо рождения, и все это делалось на его глазах и даже более того, в каждом дне этого вынашивания он принимал участие, помогал ему или видел его. С этого времени и он начинает проникаться важностью, исключительностью происходящего в Новом Иерусалиме, постепенно становится защитником и помощником Сертана.
Судя по зарисовкам в дневнике, в своих мизансценах Сертан отталкивался от картин итальянцев (которые хорошо знал, несколько лет прожив в Риме и в Милане), в первую очередь — Беллини. Расположение фигур, позы, вообще вся композиция и, что, пожалуй, еще более важно, — характеры, если они не противоречили Матфею, были взяты им оттуда. Картины были не единственным его источником, Сертан использовал и жития святых, и ту устную традицию, которая существовала в России, и апокрифы, но на первом месте были все-таки картины; даже многие типажи действующих лиц, особенно второстепенных, о которых ничего не было известно, нашел он у Беллини, и это в огромной степени облегчило, ускорило работу, которая иначе оказалась бы просто бескрайней.
Конечно, хотя была важна и типажность, и то, чем получившие роли занимались раньше (треть из его апостолов, как и в Евангелиях, рыбачила, был среди них и мытарь), главным для Сертана было другое. В дневнике он оставил короткое описание того, как шли пробы.
Сначала Сертан намечал довольно широкую группу кандидатов и, подгадав, когда кому-то из них было плохо и тяжело или он устал, или был в беде, читал ему из Евангелия слова любви и милости; он говорил ему: «Утешься, ибо Христос пришел…» — и если видел, что душа человека наполняется радостью и умилением, если видел, что слова Христа именно для него и к нему обращены, что они снимают груз горя с его плеч и этот крестьянин, явись сюда Христос, не задумываясь, пошел бы за Ним, — он брал его к себе и с чистой совестью мог сказать, что и Христос тоже взял бы его.
Недавно я писал, что и келарь скоро начал видеть, как рождается и прорастает сквозь русскую землю, прорастает, как трава, когда весной сходит снег, Святая земля, но здесь по своей прежней ненависти к Сертану он был из последних, а остальные видели это уже давно и уже научились понимать и чувствовать всю округу Обетованной землей, Израилем. Для крестьян, занятых в постановке, бывшая еще недавно раздвоенность — надо было жить в двух мирах, и в каждом действовать и существовать по-своему, то, кем они были в одной жизни, совсем не совпадало с тем. что было в другой, и их старый опыт был неприменим, часто просто мешал, — так вот это раздвоение постепенно уходит.
Получившим главные роли все необходимое теперь дает монастырь, и они могут больше ни о чем, кроме постановки, не думать. Напомню, что для них это и не роли, а их жизнь, их миссия, то, что им суждено и предназначено. Актеры же, занятые в небольших эпизодах, хотя они продолжают крестьянствовать, легко разделяют свою одну и вторую жизни; их обычное земное бытие полностью подчинено постановке, оно — довесок, и довесок временный, как временна телесная оболочка, а жизнь, обращенная к Христу, к Богу, вечна, и, в сущности, только она реально есть и пребудет. Именно по законам вечной жизни здесь, в России, возникают и растут Назарет, Вифлеем, Иерихон, Иерусалим, появляются их окрестности, но одновременно происходит быстрое вытеснение и забывание прошлого, того, чем эти люди были раньше, собственной их истории и истории их земли. Зрение полностью меняется, и даже там, где задуманное Сертаном далеко еще не сделано, они видят все как бы законченным, легко запоминают и мысленно строят с его слов, и, как кажется, продолжающаяся подгонка местности нужна им лишь для чужих, для тех, кто не причастен к репетициям, и кому, словно маленьким детям, надо потрогать руками, чтобы убедиться. Собственно, в Новом Иерусалиме мы видим попытку построения на земле другого, высшего мира, когда одухотворяется сама земля, когда она возводится душами и для душ — и это почти в самом начале, на третьем году работы Никона и Сертана.
Как только Сертан завершил развертку картин, взятых у итальянцев, нарисовал сотни и сотни эскизов, набросков, связок, соединяющих картины, он решил, что пора приниматься за репетиции, иначе отобранные им актеры перегорят, могут привыкнуть к словам, и те станут для них слабеть и умирать.
Начав же репетировать, он через несколько дней вдруг поймал себя на мысли, что теперь, наоборот, боится, что его актеры почувствуют себя и действительно сделаются профессионалами, от кого-нибудь случайно узнают, что это роль и все это — просто обыкновенный театр, он и сам, собственно, уже стал забывать, что это театр, забывать, что вообще есть на земле пьесы и актеры.
Но опасность была невелика: что такое театр, в Новом Иерусалиме никто не знал, да и никто в монастыре не понял бы, что то, чему Сертан учит крестьян, — из рода представлений, даваемых на Руси скоморохами, настолько одно было непохоже и не вязалось с другим. Бояться ему было нечего. Тут выходит, что для Сертана и профессионализм актеров был плох, и непрофессионализм тоже плох, и что его постановка никакой не театр, единственное все разрешало.
В нем пока еще сохранился старый страх, что без профессиональных актеров он не справится, но этот страх уходил; у Сертана уже появилось ощущение, что получается и получится, которое шло от всеобщей уверенности, что иначе и быть не может, от того, что немало вещей и в самом деле уже удались, и хотя эта уверенность отнюдь не опровергала прежних опасений, была из другого теста, из другой оперы, но страх был как бы отодвинут ею, отодвигался с каждым днем дальше, и о нем можно было больше не думать.
Весной шестьдесят пятого года исполнилось семь лет, как Сертан попал в Россию. Он давно сносно знал язык, успел повидать за это время сотни разных людей, со многими довольно близко сойтись, и все-таки он чувствовал, что ни России, ни происходящего здесь он не понимает. Судя по дневнику, он о многом догадывался, но его догадки были такими странными, что он не верил в них и сам. Он постоянно спрашивал себя, почему его не отпустили во Францию, почему заставили служить опальному и заниматься странной постановкой. Он придумывал тысячи ответов, один фантастичнее другого, и каждый из них — чего он не хотел и о чем не думал, — невольно и легко расходясь вглубь и вширь, сразу начинал касаться всей России. Страна, получавшаяся у него, была настолько ни на что не похожей и невозможной, что ясно было, что здесь что-то не так. Скорее всего, Сертан не понимал России, не понимал, куда она идет, к какой судьбе готовится, долго, почти до последних дней не понимал, и что он тут делает, из-за искаженности, неполноты отношений с людьми, с которыми его сводила судьба.