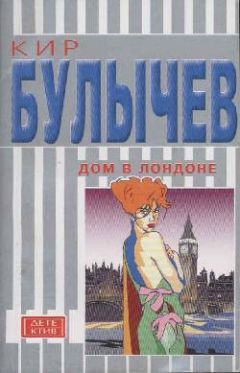Тони Моррисон - Возлюбленная
Наступили предрассветные сумерки; Эми сказала, что должна идти, чтобы не попасться среди бела дня с беглой рабыней: лодки вот-вот начнут сновать по реке. Вымыв лицо и руки, она встала, посмотрела на ребеночка, которого перед тем запеленала и плотно привязала Сэти к груди.
– Она так никогда и не узнает, кто я такая. Ты ей расскажешь? Расскажешь, кто вытащил ее в этот мир? – Эми вздернула подбородок и посмотрела куда-то вдаль, туда, где должно было встать солнце. – Ты уж все-таки расскажи ей, ладно? Слышишь? Скажи: мисс Эми Денвер. Из Бостона.
Сэти чувствовала, как засыпает, погружается в сон, который, как она знала, будет очень глубоким. Уже почти соскользнув в сон, она успела подумать: «Какое хорошенькое имя. Денвер. Правда хорошенькое».
* * *Пора было во всем этом разобраться. Пока Поль Ди не пришел и не уселся на ее крыльце, слова, что некогда прошептала ей Бэби Сагз, заставляли ее ходить, двигаться, помогали терпеть отвратительные выходки маленького привидения; благодаря этим словам она восстанавливала в памяти лица Ховарда и Баглера и могла уже порой вспоминать их целиком, потому что во сне видела только, как они мелькают среди ветвей больших деревьев, а муж ее продолжал оставаться в тени, но он, безусловно, существовал – правда, неведомо где. А теперь лицо Халле там, у маслобойки, распухало, разрасталось, давило на глаза, и от этого нестерпимо болела голова. Ей ужасно хотелось, чтобы Бэби Сагз растерла ей затылок и шею и прошептала те слова: «Сложи свое оружие, Сэти. И меч, и щит. Положи их на землю. На землю. И меч, и щит – на землю. На берег реки. И меч, и щит. И позабудь о войне, не думай о ней. Пусть все это уйдет. Положи их на землю – меч и щит». Ощущая легкий нажим пальцев Бэби, слушая ее тихие наставления, она действительно складывала оружие. Клала на землю тяжелые клинки, которыми отбивалась от горя, сожалений, злобы и боли. Один за другим она клала их на берегу реки, над стремительным, чистым потоком.
Девять лет не ощущала она прикосновения пальцев Бэби Сагз, не слышала ее голоса – слишком долго. И слова, нашептанные в гостиной, значили теперь слишком мало. Вымазанное маслом лицо Халле – Господь, дозволив такое, не сделал это лицо лучше – требовало от нее чего-то большего: построить памятник или сшить траурное платье. Или совершить какой-то обряд. Сэти решила сходить на ту Поляну, где давно уже не бывала и где когда-то в солнечном свете танцевала Бэби Сагз.
До того как соседи стали избегать дом номер 124, а его обитатели сами затворились в нем ото всех, до того как он стал игрушкой и обиталищем обиженных духов, дом номер 124 был очень веселым и шумным; здесь Бэби Сагз, святая, любившая людей, давала советы, кормила, ругала и утешала. Здесь на плите тихонько кипели два – всегда два, не один! – горшка, и лампа горела всю ночь. Незнакомые люди отдыхали здесь, а дети возились на полу, примеряя их башмаки. Здесь оставляли для передачи самые важные послания, ибо тот, кому они предназначались, всегда мог случайно заглянуть сюда не сегодня, так завтра. Беседа велась вполголоса и только по делу – Бэби Сагз, святая, не одобряла лишней болтовни. «Главное – знать меру, – говаривала она и прибавляла: – Хорошо, когда умеешь остановиться вовремя».
Таким был дом номер 124, когда Сэти с новорожденной Денвер, крепко прикрученной к ее груди, вылезла из тележки и сразу почувствовала широкие объятия своей свекрови, ее руки, которыми она могла, казалось, обнять весь Цинциннати. Бэби Сагз решила, что раз уж жизнь, проведенная в рабстве, «испоганила ее ноги, спину, голову, глаза, руки, почки, чрево и язык», то теперь у нее не осталось ничего, кроме ее большого сердца – которое она тут же и заставила трудиться. Она не разрешала прибавлять к своему имени слова почтения, разве что ласковые прозвища после него, и стала вольной проповедницей: обращалась к людям и открывала свое огромное сердце для тех, кто испытывал в том потребность. Зимой и осенью она несла свое сердце в Африканскую методистскую церковь, к баптистам и папистам, в Церковь святых, искупленных и спасенных. Незваная, необлаченная, непомазанная, она позволяла своему великому сердцу говорить в их присутствии. Потом наступала теплая пора, и тогда Бэби Сагз, святая, вела всех чернокожих – мужчин, женщин и детей, всех, кто был способен передвигаться, – на Поляну и несла туда свое великое сердце. Поляной называлась широкая вырубка в лесной чаще, сделанная неизвестно для чего в конце длинной полузаросшей тропы, знакомой лишь оленям да тому, кто впервые вырубил здесь деревья. И весь жаркий субботний полдень она сидела на этой Поляне, а собравшиеся люди ждали в тени среди деревьев.
Устроившись на большом плоском камне, Бэби Сагз кланялась и молча молилась. Собравшиеся издали наблюдали за нею. Они понимали, что настал их черед, когда она клала свою палку. А потом кричала:
– Пусть подойдут дети! – И дети выбегали из-за деревьев и устремлялись прямо к ней.
– Пусть матери услышат ваш смех, – говорила она им, и лес начинал звенеть. Взрослые смотрели и не могли сдержать улыбок А потом она кричала:
– Пусть подойдут сюда взрослые мужчины! – И те выходили один за другим из тени деревьев, звеневших от смеха детей.
– Пусть ваши жены и дети увидят, как вы танцуете, – говорила она им, и земля содрогалась от топота крепких ног.
И наконец она подзывала к себе женщин.
– Плачьте, – говорила она им. – О живых и о мертвых. Просто плачьте. – И, не прикрывая руками лиц, женщины давали волю слезам.
Так всегда начиналось: смеющиеся дети, танцующие мужчины, плачущие женщины, а потом все смешивалось. Женщины переставали плакать и начинали танцевать; мужчины садились и начинали плакать; дети плясали, женщины смеялись, дети плакали – пока, измученные совершенно, задыхаясь, все они не падали на сырую землю Поляны. И в наступившей тишине Бэби Сагз, святая, приносила им в жертву свое великое щедрое сердце.
Она не призывала их очиститься, не говорила: иди и впредь не греши. Не говорила, что на них лежит благословение, ибо кроткие наследуют землю и праведников возвысит Господь.
Она говорила им о том, что Благодать будет им доступна, если они способны вообразить ее себе. Но если они не могут ее себе представить, то она и не снизойдет на них никогда.
– Здесь, – говорила она, – на этой Поляне, мы – всего лишь плоть; плоть, которая плачет, смеется, танцует босиком на траве. Любите же свою плоть. Те, другие, вашу плоть не любят. Она им отвратительна. Они не любят ваши глаза; они бы предпочли выколоть их. Не больше любят они и кожу на ваших спинах – они бы с радостью содрали ее. И – о, мой народ! – до чего же они не любят ваши руки! Те самые, трудом которых они пользуются, а потом связывают их, стягивают веревками, отрубают и всегда оставляют пустыми. Любите же ваши руки! Любите их. Поднимите их и поцелуйте. Коснитесь ими других людей, похлопайте себя по коленям, погладьте руками себя по лицу, потому что те, другие, этого тоже очень не любят. Именно вы должны полюбить свои руки, именно вы! Ах нет, и рты ваши, ваши губы тоже им ненавистны, тем, другим. Им куда приятнее, когда они разбиты в кровь, когда снова и снова кровь заливает их. То, что вы говорите своими губами, им безразлично. Того, что выкрикиваете вы от боли, они не слышат. А то, что вы кладете в рот, дабы напитать тело свое, они у вас непременно отнимут и взамен дадут свиное пойло. Да, губы ваши и рты им тоже ненавистны. Вы же должны полюбить их. Все то, о чем я говорю здесь, – это плоть ваша. Та самая плоть, что так нуждается в вашей любви. Ноги, которым нужно и отдохнуть, и потанцевать; спины, которым непременно нужна поддержка; плечи, которым очень нужны руки, сильные руки. И вот что я вам скажу: те, другие, – слышите ли вы меня, дети мои? – они очень не любят, когда на шее у вас не затянута петля, когда шея у вас свободна. Когда она прямая. Так что любите свою шею; коснитесь ее рукой, удивитесь ее красоте, погладьте ее и держите шею свою прямой, а голову – высоко поднятой. И все свои внутренности – те самые, которые они с превеликим удовольствием бросили бы свиньям, – вы тоже должны полюбить. Темную, черную вашу печень – любите ее, любите; и свое живое, бьющееся сердце – любите тоже! Больше, чем глаза или ноги свои. Больше, чем легкие, которые должны полниться вольным воздухом. Больше, чем животворное свое чрево и животворные свои чресла – слушайте меня, любите же свое сердце, дети мои. Ибо нет ничего дороже. – И тут Бэби Сагз умолкала, вставая с камня, и, несмотря на свое искалеченное бедро, начинала танцевать, чтобы высказать то, что невозможно выразить словами, а остальные принимались петь, аккомпанируя ей. Тянули долгие ноты, пока четырехголосная каденция не завершалась мощным аккордом любви к бесценной плоти.