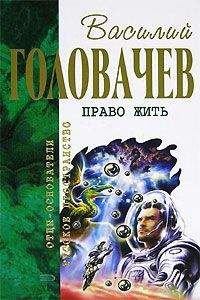Уильям Кеннеди - Железный бурьян
— Мне звонили рыжий Том Фицсиммонс и Мартин — оба говорят, что на Бродвее все спокойно, — сказал Билли Френсису. — Я говорил тебе: у меня были неприятности с Макколами.
— Помню.
— Я не захотел сделать все, как они хотели, и они решили меня прижать. Играть не мог, зайти выпить никуда не мог на Бродвее.
— Я читал статью Мартина, — сказал Френсис. — Он назвал тебя кудесником.
— Мартин тебе набрешет. Я ничего такого хитрого не сделал. Только сказал про Ньюарк — и там прихватили кое-кого из похитителей.
— Что-то ты все-таки сделал. Про Ньюарк сказал — уже кое-что. Кому ты про него сказал?
— Бинди. Но я не знал, что эти люди — в Ньюарке, а то бы ничего не сказал. Стучать я ни на кого не стану.
— Зачем же про Ньюарк сказал?
— Не знаю.
— Вот, значит, почему ты кудесник.
— Да это Мартина трепотня. Но кое-кого он переубедил; политики от меня нос уже не воротят, так он сказал по телефону. То есть я вроде уже не вонючка.
Френсис принюхался к себе и решил, что надо как можно скорее помыться. К бродяжьему смраду его костюма добавилась вонь тележки Росскама, и в этом доме запах оказался нестерпимым. Грязные мясники на рынке не удерживаются.
— Разве можно уходить, Билли? — сказала Энни. — Отец пришел и будет обедать с нами. Сейчас идем на чердак смотреть его вещи.
— Индейку любишь? — спросил его Френсис.
— Какой же дурак не любит индейку — если тебе нужен подробный ответ. — Билли посмотрел на отца. — Слушай, захочешь побриться, возьми в ванной мою бритву.
— Не учи людей, что им делать, — сказала Энни. — Одевайся и иди вниз.
После этого Френсис с Энни взошли по лестнице на чердак.
Когда Френсис открыл сундук, запах утраченного времени распространился по чердаку — насыщенный аромат цветов-узников, растревоживший пыль и всколыхнувший занавески на окнах. Френсиса сразу одурманил этот запах воскрешенного прошлого и ошеломило увиденное — ибо из сундука с фотографии смотрело на него его лицо в возрасте девятнадцати лет. Вокруг карточки лежали в беспорядке скатанные носки, американский флажок, бейсболка «Вашингтонских сенаторов», газетные вырезки и другие фотографии. Френсис смотрел на себя с трибуны Чедвик-парка днем 1899 года — лицо без морщин, все зубы целы, ворот расстегнут, волосы треплет ветер. Он поднял карточку, чтобы разглядеть получше, и увидел, что стоит в группе мужчин, перебрасывая мяч из правой руки в левую, на которую надета перчатка. Полет мяча на этом фото всегда был для Френсиса загадкой, потому что аппарат запечатлел мяч и сжатым в руке, и в полете — смазанной дугой, устремленной к перчатке. Фотография слила два мгновения в одно: время разрозненно и едино, мяч в двух местах сразу, явление такое же необъяснимое, как Троица. Френсис воспринял фотографию как троичный талисман (рука, перчатка, мяч) для достижения невозможного, ибо всегда считал невозможным для себя, разрушенного мужчины, несостоявшегося человека, вернуться в историю под этой крышей. И, однако, он здесь, в этой твердыне восстановимого времени, прикасается к неприкасаемым материальным остаткам жизни человека, который еще не знал, что погиб, так же как мяч в своем неодушевленном неведении не сознает еще, что летит в никуда, что он пойман.
Но мяч еще не пойман — пойман только фотоаппаратом, запечатлевшим его положение в пространстве.
И Френсис еще не погиб — есть только очевидность процесса.
Мяч еще летит.
Френсис еще живет, чтобы отыграть еще один день.
Разве нет?
Мальчик заметил зубы. Человек может вставить новые зубы, фабричные. Энни вставила.
Френсис вынул из сундука верхний лоток, и под ним оказались шиповки, перчатка, которую немедленно схватил Даниел, два костюма, пара черных полуботинок без шнурков и пара коричневых туфель на кнопках, дюжина рубашек и дюжины две белых воротничков, кипа нижних рубашек и трусов, связка ключей от давно забытых замков, брусок и ремень для правки бритв, чашка для бритья с обмылком, помазок с еще целой щетиной, семь опасных бритв в коробке — по дням недели, — носки, галстуки-бабочки, подтяжки и бейсбольный мяч, который Френсис вынул и показал Даниелу.
— Видишь это? Имя видишь?
Мальчик посмотрел и покачал головой:
— Не могу разобрать.
— Поднеси к свету, прочтешь. Это Тай Кобб. Он расписался на этом мяче в 1911 году — в тот год он бил 420. Мне подарил мяч один парень, и я его сохранил. Коварный игрок был Тай Кобб — сколько раз он шел на меня с шипами. Но что играть умел — этого у него не отнимешь. Он был лучше всех.
— Лучше Бейба Рута?
— Лучше — злее, коварней, быстрей. Бить хоумраны, как Бейб, не мог, но все остальное делал лучше. Хочешь этот мяч с его автографом?
— Конечно хочу! А кто не хочет?
— Тогда он твой. Но ты почитай про него — и про Уолтера Джонсона. Узнаешь, какие это были игроки. А Кобб, я слышал, еще жив-здоров. Тоже еще не умер.
— Этот костюм я помню, — сказала Энни, подняв рукав пиджака в елочку. — Он у тебя был выходной.
— Интересно, впору ли еще? — сказал Френсис и приложил брюки к талии. Оказалось, что за эти двадцать два года ноги у него не стали длиннее.
— Забери его вниз. Я протру его губкой и выглажу.
Френсис хмыкнул.
— Выгладишь? Оденусь-ка я во все новое. Выкинем эту рванину.
Он набрал себе полный туалет, вплоть до носового платка, и сложил на полу перед сундуком.
— Я хочу их посмотреть, — сказала Энни, вынув вырезки и фотографии.
— Забери их вниз, — сказал Френсис и закрыл сундук.
— Я понесу перчатку, — сказал Даниел.
— А я бы попользовался твоей ванной, — сказал Френсис. — Ловлю Билли на слове — побреюсь и шмотки примерю. Вчера вечером брился, но Билли говорит, снова надо.
— Не обращай внимания, — сказала Энни. — Ты прекрасно выглядишь.
Она спустилась с ним по лестнице и провела его по коридору, куда выходили, одна против другой, две комнаты. Показала на спальню, где скромно, со вкусом подобранные, стояли односпальная кровать, туалетный стол и детское бюро.
— Это комната Данни. Хорошая большая комната, и утром в ней солнце. — Энни вынула из стенного шкафа полотенце и дала Френсису. — Если хочешь, мойся.
Френсис заперся в ванной и примерил брюки; они были впору, только не застегивалась верхняя пуговица. Наденем с подтяжками. Пиджак вышел из моды двадцать лет назад, и остаточное чувство приличия в Френсисе было оскорблено. Но он решил все равно надеть этот пиджак; душок времени был несравненно приятнее, чем смрад бродяжничества, пропитавший то, что было на нем. Он разделся и пустил воду в ванне.
Осмотрел рубашку из сундука и предпочел ей белую с выделкой из тележки старьевщика. Примерил полуботинки без шнурков, давно разношенные, и обнаружил, что даже с мозолями ноги у него за эти двадцать два года не выросли.
Он вошел в ванну и медленно погрузился в ее пары. Вздрогнул от жара, от удивления, что он действительно тут и горячая ванна ему в самый раз, как индейке жаровня. Он ощутил блаженство. Он смотрел на умывальник, окруженный сейчас ореолом святости, и краны его были священны, и душ божествен, и он подумал: а не на все ли нисходит благодать в тот или иной момент существования, — и решил: да. Пот тек по его лбу и с носа капал в ванну — слияние древней и современной влаг. И, как бывает, солнце вдруг прорвало меркнущие небеса, и сияние его было внезапно, как вспышка молнии; однако блеск этот не гас, словно некий ангел блаженной ясности парил за окном ванной. Столь стоек был свет, столь ярок даже после заключительного закатного салюта, что Френсис вылез из ванны и подошел к окну.
Внизу, на дворе, Альдо Кампьоне, Скрипач Куэйн, Гарольд Аллен и Бузила Дик Дулан возводили деревянное сооружение, в котором Френсис уже признал будущую трибуну.
Он вернулся в ванну, намылил щетку на длинной ручке, поднял из воды левую ступню, отскреб ее дочиста, поднял правую ступню и отскреб ее.
Франтом 1916 года спустился Френсис по лестнице: бабочка, белая с выделкой рубашка, черные полуботинки с лоском, серый в елочку пиджак с лацканами на двадцать лет уже принятого, черные шелковые носки и белые шелковые трусы, кожа повсеместно свободна от грязи, голова вымыта дважды, под ногтями чисто, оставшиеся зубы начищены, зубная щетка вымыта с мылом, вытерта и вставлена на место, щетины на щеках нет и в помине, волосы расчесаны и смазаны для покорности вазелином, походка пружинистая, на лице улыбка; Френсис франтом сходит по лестнице, да, и поражает семью восстановимостью своей красоты и потенциалом элегантности и воспринимает их взгляды как рукоплескания.
И в голове у него играет танцевальная музыка.
— Черт возьми, — сказал Билли.
— Вот это да, — сказала Энни.
— Вы по-другому выглядите, — сказал Даниел.
— Надо было маленько принарядиться, — ответил Френсис. — Амуниция чудная, но сойдет.