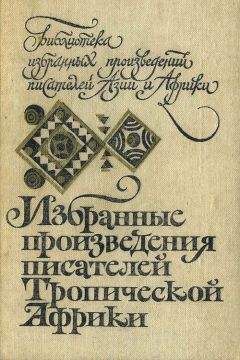Айи Арма - Осколки
Сеть выползла из моря только часа через два, когда неистовое послеполуденное солнце подернулось мягкой вечерней дымкой, но для Хуаны время пролетело быстро, почти неощутимо. Мальчишка спел семь песен с длинными, гармонически переходящими одна в другую музыкальными фразами, последние звуки которых подхватывал хор. Иногда мужчины, вытягивающие канаты, делали несколько шаркающих шагов назад или меняли ритм движений, чтобы приспособиться к новой песне. И вот появилась сеть.
Над ней кружилась целая стая чаек. Темная и мохнатая от водорослей, сеть тяжко плюхнулась на песок, как бы раздавив вынесшую ее волну. Даже туда, где сидела Хуана, доносился неумолчный влажный шорох, и она ясно представляла себе, как рыбы, в последнем безнадежном усилии вырваться на свободу судорожно изгибают серебристые чешуйчатые тела. Людям теперь было не до песен. Беспорядочной толпой они сгрудились вокруг сети, и корявые бугры их мускулов снова напряженно вздулись. Мальчишка, сидя под деревом, продолжал петь, но не громко, а как бы только для себя, хотя временами пронзительный вскрик, напоминающий горестную жалобу, ломал его монотонное, чуть слышное пение. Женщины протягивали рыбакам деньги и наполняли подносы шевелящейся рыбой. Мужчины, собрав сеть и канаты, взвалили их на спины и двинулись вдоль берега туда, откуда появилась встречавшая их толпа. Мальчишка шел сзади всех, опустив голову и высматривая что-то в песке: может быть, он надеялся найти какую-нибудь маленькую рыбешку, но ему ничего не удалось отыскать. А потом он вдруг нагнулся, выпрямился, и Хуана увидела, что он держит в руке ее лифчик.
— Баако, смотри!
— Ишь ты, нашел! — воскликнул Баако. — Сейчас принесу. — Он встал, но Хуана удержала его. Мальчишка обмотал никогда не виданную им вещицу вокруг головы и побрел дальше; вскоре прибой заглушил его песню, а потом он и сам скрылся за холмом.
На обратном пути Хуана долго молчала.
— Ты смотрел только на этого мальчугана, — наконец проговорила она.
— Я думал, ты тоже поняла.
— Что?
— Он помог им обрести то, чего у них не было.
— И за это ему здорово от них досталось.
— Да. — Баако замолчал и стал глядеть в окно на заросли кустарника и травянистые холмы, уплывающие назад. Потом повернулся к Хуане и радостно сказал: — А знаешь, они закончат высоковольтную линию в будущем месяце.
— Кто тебе сказал?
— У нас было производственное совещание.
— Месяцы здесь частенько растягиваются на годы, — сказала Хуана, но Баако не улыбнулся, и она немного смутилась.
— Представляешь, как будет замечательно, когда в деревнях появятся телевизоры?
— Ну да, лет через двести. Послушай, Баако, ты слишком многого ждешь от этой страны.
— Так мне что — совсем ничему не верить? — Не найдя убедительных слов, она оторвала взгляд от дороги и поцеловала его в щеку. — Нет уж, ты ответь, — упрямо сказал он.
— Я надеялась, — проговорила она, стараясь скрыть чувство вины, — что ты не будешь так прочно связывать свое счастье с внешними обстоятельствами, со словами или обещаниями других людей.
Баако промолчал, и она почувствовала облегчение. Солнце, светившее в заднее стекло, закатилось, а когда они въехали на холм, впереди замелькали уже зажженные городские огни. Ей хотелось надеяться, что ее слова не отпугнули его, однако она не была в этом уверена. Он упорно глядел в окно и только раз посмотрел на нее — так пристально и сосредоточенно, что его взгляд показался ей прощальным, и она не решилась повернуться к нему, хотя наступившие сумерки скрыли бы ее смятение. Она смотрела на дорогу и ехала все быстрей.
Глава седьмая
Вода
Надежды оказались тщетными — увольнение не принесло ему желанного покоя. Он мечтал оглядеться, прийти в себя, чтобы вырваться наконец из того пустого круговорота, который его засосал. Но и теперь, когда он пытался найти хоть какой-нибудь смысл в своих беспорядочных исканиях последнего года, спокойные раздумья мгновенно оборачивались мучительным недоумением. Прошлое, в его бесполезной абсурдности, представлялось ему совершенно понятным. Если же он пытался смотреть вперед, поток воспоминаний, закручиваясь бешеными смерчами разрозненных мыслей и образов, снова вовлекал его рассудок в бесконечный и пустопорожний круговорот, из которого не было исхода.
Бессмысленность круговорота была очевидной. И эта очевидность таила в себе угрозу безумия, тут ему следовало быть начеку. Ведь другие люди, видевшие то же, что он, если не больше, радостно смирялись и поддерживали очевидно безумный спектакль, свято веруя в прочность общественного здания, чудовищно перенаселенного бездельниками, способными провозглашать расточительство средством спасения нищей страны. Порой все это казалось ему невозможным, вспыхнувшим лишь на мгновение кошмаром. Но вспышка длилась, мгновение растягивалось на годы, и Баако чудилось, что его сограждане, будучи школьниками, начали играть в футбол, а теперь, забыв правила игры, забыв, что это игра, бессмысленно и бесцельно мечутся по полю. Заводские инженеры, всегда в белоснежных рубашках и тщательно выглаженных шортах или европейских костюмах, с утра до вечера жонглировали телефонными трубками и впадали в растерянное уныние, если надо было наладить какой-нибудь механизм. Режиссеры почти никогда не работали по ночам, но ревниво следили, чтобы их фамилии и звания на дверях кабинетов мерцали люминесцентными красками. Своей основной работой они считали не создание фильмов, а путешествия. Они непременно стажировались за границей, а вернувшись домой, демонстрировали любовно отснятые ленты, повествующие о том, как они посещали заморские киностудии, осматривали достопримечательности и обедали на фоне исторических ландшафтов. Чтобы заполнить время телевизионных передач, они привычно таскались по посольствам, выклянчивая ролики фильмов и магнитофонные ленты. Изредка, для разнообразия, показывалась и ганская жизнь — например, литературные вечера, снятые неподвижными камерами. Баако все время боролся с одним ужасным воспоминанием — о том, как был написан, принят, одобрен, размножен и сдан в архив его сценарий про рабство, — но воспоминание, скользкое, словно угорь, постоянно всплывало снова. Сценарий не похоронили окончательно только потому, что он заинтересовал жену Скалдера и она решила сделать из него пьесу. В сценарии действовал белый работорговец, которому помогал непомерно разжиревший туземный вождь и его обвешанные побрякушками приближенные. Жена Скалдера заменила белого рабовладельца жестоким и звероподобным африканцем, а вся пьеса превратилась в кровавую межплеменную бойню, затеянную визжащими дикарями. И вот по этой-то пьесе был снят потом телефильм.
Воспоминание, неподвластное времени и велениям разума, постоянно терзало Баако, хотя он мучительно старался от него отделаться. Одно время он думал, что бесплодие поразило телекорпорацию сильнее, чем все остальное общество. Но, путешествуя с Хуаной по стране, он везде встречал ту же бесплодную суетность, не оставляющую человеку ни малейшей надежды. Впервые ему пришлось столкнуться с потерей каких бы то ни было нравственных устоев, когда он познакомился с Гарибой — единственным режиссером на студии, еще способным самостоятельно мыслить. Поначалу уклончивые повадки Гарибы только раздражали Баако, но потом, когда Гариба дал ему понять, что сознает собственное бесплодие, а поэтому поддерживает и всеобщий застой, Баако стал его презирать; в конце концов оба эти чувства породили ненависть. Гариба никогда не открывался полностью, но однажды все-таки проговорился, что считает себя хорошим режиссером и сам срежиссировал свою жизнь так, чтобы никто не догадался о его способностях. Он глумливо рассказывал анекдотическую историю о том, как, приехав в Аккру, с радостным рвением писал простенькие дидактические сценарии и немало удивлялся, когда каждое производственное совещание Генеральный директор заканчивал ссылкой на нехватку материалов.
— Да в чем же дело? — спросил его Баако, и на мгновение ехидная полуулыбка Гарибы показалась ему совершенно неуместной.
— Скоро сами поймете. Мы призваны запечатлевать на пленке каждый шаг Главы правительства и его помощников. Все очень просто. У нас тут была лекция — еще до того, как вы пришли в студию. Нация процветает, прославляя своих вождей. Это вот наша работа и есть.
А затем Гариба привычно и ловко прикрыл свое ехидство всегдашним смирением, так что серьезный разговор мигом оборвался, а Баако охватила бессильная злость. В тот день он впервые обнаружил, что бредет к дому Хуаны. Он шагал машинально, и если бы он сразу заметил, куда направляется, то, вспомнив, что она на работе, просто повернул бы назад. Однако ему и в голову не пришло, что ее нет, а жажда увидеть единомышленницу гнала его вперед, словно, не повидав ее, он бы просто погиб. В его голове вдруг промелькнул вопрос, впрочем сразу же угасший: могла бы окрепнуть их любовь без той пустопорожней суетни вокруг, которая постоянно толкала их друг к другу?