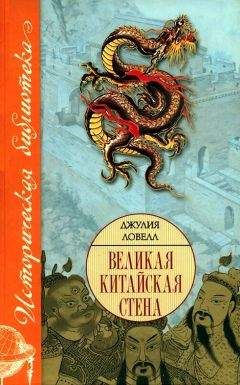Александр Архангельский - Цена отсечения
– Спасибо, Ваня, вы чудесный. Но, кажется, пора переходить к основным блюдам.
А вот с блюдами вышел облом. Тутошние устрицы были еще терпимы – пресноватые, без океанского аромата, но вроде бы свежие; что же до борща, то он решительно не удался, а котлеты оказались просто отвратительны. В тарелке плескалось алое нечто, со стружкой капусты и свеклы и скудным мазочком сметаны поверх негустого бульона. Пампушка отдавала сдобой. Куриная котлета похожа была на аккуратно свернутый голубец, где вместо кочанных листьев – куриная грудка, снятая тонким слоем. Стало обидно за настоящую водку рядом с поддельной закуской; тем не менее водку выпили, залакировали свекольным бульоном, заели ломтиком картошки, раздраженно позвали манагера.
Манагер покаянно изогнулся.
– Могу узнать имя-отчество господина, имя-отчество госпожи? Благодарю вас, сударь, спасибо, сударыня. Наш немецкий повар, он не понимает, что такое борщ и котлета по-киевски. Малохольный, знаете, народ. Признает одни только тертые супы, а как закажут что-нибудь настоящее, наше, получается жидкая водичка. Или мясная клецка.
– А поменять повара не пробовали? Или сделать сплошь немецкое меню?
– Ну что вы, господин Иван Павлович. Здесь публика солидная, патриотичная. Вот и крутимся как можем. Позвольте от имени заведения предложить вам во исчерпание, так сказать, конфликта, свежайший малиновый мусс под фирменным названием «Парфе»?
10Интересный вопрос. Если передвижника сканировать, перевести в черно-белый формат, заверстать на типографский целлулоид и вмонтировать в авангардный синтезатор – что получится? Какой образуется звук? Полная чушь или все-таки проявится странная мелодия пейзажа? А если – старинную карту работы какого-нибудь Корнея Бородавкина, или Еремея Владыкина, или Михайлы Башмакова, или морского гидрографа Петра Анжу? Вогнать в машину, закрепить боковыми плашками, запустить процесс перевода прозрачной картинки в тягучий звук. И послушать музыку древней Сибири, Китая, Северного моря? Фантастика. Перспектива. Куда там Репину и даже Левитану. Так что решение принято; он не уйдет отсюда, пока они с Колокольниковым вслепую, со взаимной опаской, как два рыбака, упустившие бредень, не нащупают ценовое дно. Без этой игрушки Мелькисарову не жить, она будет ему мерещиться, сниться, бросать в холодную дрожь, как первое влечение в самом начале любви.
Они обедали во внутреннем дворе; без польт, как выразился Колокольников, под мощной газовой горелкой. Горелка астматически сипела, синее пламя вращалось по кругу, верхнее тепло волной прокатывалось от головы к ногам, холодный свежий воздух успевал коснуться тела и тут же согревался, не причинив особого вреда; сквозь жаркую окалину горелки пахло преющим снегом и мокрой сосной.
– Хорошо ты, Колокольников, устроился.
– А то. Природа. Да у тебя что ль дома за городом нет? ты разве бедный, Мелькисаров?
– Я снимаю. В Переделкине. У писателя. Но как-то не езжу. Чужое.
– Купи свое.
– Лишняя собственность – лишний срок.
– За что? – Колокольников всерьез удивился и почти расстроился. – Ты власти не грубил, по-серьезному не бился, времена сейчас хорошие, чистые времена, только дружи с кем надо и не жадничай. Помнишь, лет пятнадцать назад, на встречи ездили с Макаровым за поясом, то ли вернешься, то ли нет? а что сейчас? Какие беды? Благодать!
– Не знаю, Колокольников. Пахнет какой-то дрянью. Охотником из-за куста.
– Ты это брось. Пахнет ему. Називина закапай. Только, бль, не моего; я для народа делаю что подешевше. Купи настоящего, ноздри прочисть. Откуда запахи? И что за хрень? Я вот выйду утром, воздух понюхать, отхаркну, просморкаюсь, втяну ноздрями кислороду, сплошное амбре! И ты давай принюхайся: денежками пахнет, я от этого запаха сразу кончаю.
Нашел, вообще говоря, с кем откровенничать; потеря чувства собеседника – опасна. Мелькисаров сделал вид, что хохотнул, аккуратно увел разговор в сторону, свернул на любимые аптекарские диеты: хочешь размягчить клиента, поговори с ним о приятном. Вот кровь, казалось бы, а надо ж. Охотники – первая группа! Мяса давай, сексу, бодрости хоть отбавляй! Вот на меня погляди. А вторая? Земледельцы, рыбья кровь; молочка им, сырку; можно и переспать, а можно и не переспать; вялые они, такая вот у них природа. Третья: в основном евреи. Мелькисаров не еврей, уже установили. Четвертая… да ладно. Что там, говоришь, машинка? За сколько – за сколько? Не смеши.
Еду подавала деревенская тетка, с небольшой головкой, маленьким телом и необъятным тазом, чем-то похожая на несушку, испуганно выглянувшую из корзины. И плачу недорого, и работу даю соседям. Жареную стерлядь в сухарях, грибную икру из размоченных зонтиков, ушки соленых рыжиков, пирожки мои дружки с рубленной молокой, зеленым луком и картофелем запивали белым бургундским восемьдесят восьмого года. Иноземного не ем, своеродного не пью. Папским красным, девяносто третьего, сопроводили молочного поросенка с воткнутой в ноздрю петрушкой и разбухшей гречневой кашей под розовой кожей, самобытного цыпленка, только что с насеста, сельскую скребнину четырех сортов. К чаю был вишневый пирог песочного теста, ноздреватая быстрая сдоба, пышная шарлотка, вся в капельках яблочной влаги поверх дрожащего белка, домашние эклеры и черное пирожное картошка, память пионерского детства. С настоящей сахарной пудрой.
Доев картошку, Колокольников смачно, по-собачьи облизал чайную ложечку – с обеих сторон, довольно улыбнулся, откинулся на спинку, объявил:
– Ладно, хер с тобой, Мелькисаров, что на тебе наживаться. Хорошо посидели, хороший день, хороший разговор: бери. Процентиков десять накинь – и получай. Люди мои запакуют, доставят завтра вечером, только скажи куда.
– Ты знаешь, Колокольников, пусть отвезут в Переделкино, на дачу; адресок я оставлю; и у меня будет повод проветриться.
11Вот и наступил момент расплаты. Жанна для порядка потянулась к сумочке; последовал изумленно-недовольный жест кавалера; что вы, как можно. Иван вальяжно скользнул рукой во внутренний карман, смущенно пожал плечами, растерянно поднял брови. Похлопал по наружным, начал плебейски краснеть: от шеи к подбородку густо и ровно, на скулах и щеках рваными пятнами. Лоб заблестел, сквозь дезодорант запахло терпким потом. Мстительный официант стоял подчеркнуто-терпеливо; в отведенном взгляде и отсутствующей позе было что-то язвительное. Бумажника не оказалось и в задних карманах; под стол – не завалился.
Что же он так возится?
– Ваня, не ищите, я заплачу, потом вернете.
– Нет-нет-нет-нет.
Мельтеша, он поспешил в гардероб; официант отклячил нижнюю губу, как бы выражая Жанне сочувствие: дескать, разные бывают ухажеры, что ж, мы знаем-с, навидались, работа у нас такая. Ей стало страшно неудобно и даже стыдно. Не за себя, а за Ивана. За его пошлую суетливость, за мелочную растерянность, за то, что стал похож на плохого актера, забывшего роль и начавшего бекать и мекать. Почему не прогнал обслугу? Зачем позволил хаму молчаливо глумиться? Ведь умеет же ставить на место? Она видела, он же – демонстрировал!
– Вы-то что тут расстоялись? Ступайте, надо будет – позовут! – прикрикнула на официанта, и с ужасом поняла: оно.
Будущее чувство неспешно назревало в ней, смутно бродило, но до сих пор не прорывалось. Ей приятно было находиться рядом с Ваней, доверяться ему и его подначивать; не более того. Но в эту неприятную секунду – взяло и выплеснулось наружу; теперь уже обратно не загонишь. За чужим мужчиной наблюдаешь как угодно. Насмешливо, сочувственно, равнодушно. Но гадкое чувство собственного, личного провала может вызвать только свой, который должен быть лучше всех, а вот как неудачно вышло.
12Как кошку тянет на место преступления, хотя ведь знает, паршивка: хозяева пройдутся мокрой тряпкой по усатой морде, так Жанна, позволив себе, не смогла удержаться. Собственно, и не было ничего; что такого она себе позволила? почти пионерские танцы, невинная фривольность, никаких соприкосновений под столом, даже прощальный поцелуй – холодный, с оттенком неудобства. А все равно осталось ощущение измены, послевкусие предательства, чувство незаконного, непозволительного счастья. Особенно ее смутило появление ненужного свидетеля; стоило им, расставаясь, потянуться губами навстречу, как мимо, в темную глубину Потаповского прошмыгнула наглая советская машина, разбитый старый драндулет. И не застенчиво прошмыгнула, дескать, целуйтесь-целуйтесь, мы случайно, ничего не видели и вообще нам не до того. А проехала медленно, на малой скорости, с подлым любопытством.
Войдя в квартиру, Жанна долго отмокала в ванной, смывая налет чужого запаха; жевала жвачку, наливала из мелкой бутылочки корейский протрезвляющий отвар; бродила по спальне, заставляя себя напевать что-то бравурное; нарочито медленно пила чай. В конце концов ноги сами понесли в Степину квартиру: поторчать на виду, помозолить глаза, виновато поцеловать противного мужа, попрощаться на предстоящую ночь, обезболить зудящую совесть.