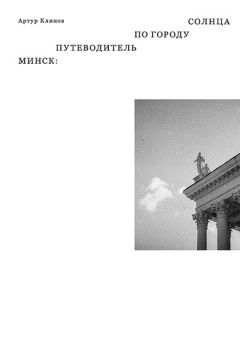Борис Ширяев - Ди - Пи в Италии
— А шеколад там был? — протягивается к нему солдатская рука с пайковой плиточкой американского рациона.
— Был… только… — разъяснение сложной системы снабжения трудящихся продуктами питания в стране победившего социализма Лоллику не удается. Выясняется лишь одно: будучи в России, шеколад он ел только раз в течение всей своей сознательной жизни. Но гастрономическая проблема интересует обе стороны: жандармов — теоретически, а его — практически, так как для наглядности плитку шеколада сменяет кусок колбасы, а колбасу — апельсин. Лоллик чужд рутины. Поэтому он поглощает все в порядке поступления, не придерживаясь устарелых традиций. Интересный разговор между тем продолжается и в порядке прений выясняется, что в этой самой России ее достигшее вершин благосостояния население ветчины не ест, предпочитая ей кладбищенские консервы из собственных дедушек и бабушек.
Страшные рассказы о колбасе из отрытых трупов, слышанные на далекой родине, видимо, глубоко засели в памяти ее блудного сына.
— Стой, — говорит сержант, — этот мальчишка рассказывает занятные истории; позовите лейтенанта, ему будет интересно.
Лоллик повторяет свои воспоминания перед пришедшим офицером.
— Слышите? — говорит тот солдатам, ведь так складно врать мальчишка не может. Он еще слишком мал для пропаганды… следовательно…
— Следовательно, врет «Баффоне» и наслушавшиеся его дураки, — решает сержант.
«Баффоне» значит по-русски «усач». Это старинная кличка итальянского Фальстафа, хвастуна и враля, Героя позабытой уже кукольной комедии, «Петрушки» залитых солнцем площадей. Теперь о ней вспомнили и приклеили ее к Сталину.
— Вот вам и разгадка того, почему эти люди скитаются здесь по пустырям и развалинам, а не возвращаются на родину, как наши из Германии.
— Мертвечина вряд-ли вкусна! Даже с пармезаном и оливами… Брр… — плюются жандармы.
Собеседование на русские темы длилось до ухода отряда. Лоллика оно обогатило. Пришлось даже сбегать домой за коробкой, чтобы сложить в нее непомещавшиеся в руках апельсины, шеколадкн, куски колбасы, початые банки консервов… Вероятно, и его слушатели несколько обогатили правдой свои представления о стране, где жизнь так свободна и прекрасна.
Наутро мы облегченно вздохнули. Радио прохрипело о победе католиков.
— Пронесло на этот раз мимо! Еще поживем.
Но обрывки плакатов со столь знакомыми нам усами висели еще долго и злобно шуршали по ночам.
— Это «горячо любимая родина» нас с тобою зовет, — говорил тогда мне Савилов. — Слышишь ее?
Я слышал и, наслушавшись шорохов спал сторожко и тревожно.
Куда уйти от них? Где скрыться от ее «призывов»?
***Счастливый день, когда шорохи оборванных плакатов и другие более основательные причины перестали треножить сны большинства обитателей Ширяевки, пришел под осень.
На пустырь, как и весной, покачиваясь в рытвинах, въехали два грузовика и слободчане устремились к ним, таща чемоданы, сумки и ящики…
— Кто в Венецуэлу — на первый, а в Аргентину на второй! — пытался установить порядок кто-то, незабывший еще немецкого «орднунга».
Тщетно! Да и к чему? Все равно всем вместе еще до Неаполя ехать. А там… там рассеются по неведомым путям.
— Счастливо! Устроитесь — напишите!
— Обязательно! Не сомневайтесь! И вас вытянем!
Конечно, никто ни слова не написал и никто никого не потянул. Да и тянуть было некого. Ширяевка опустела. На пустыре остались лишь мы в своем палаццо, Савилов на своей кровати, да еще какие-то тряпки и камышевый шалаш около стены моей виллы, в который нужно было вползать на четвереньках.
Тряпки сгребли и выкинули на соседний участок, а шалаш оставили «на всякий случай».
Проводили мы чужих, случайно сбитых в одну кучу с нами людей, а все-же было грустно. Было грустно прощаться с нами и отъезжавшим. Вновь обросший густой гривой доктор долго тряс мою руку. Я вас добром вспоминать буду…
— И в память обо мне постригитесь в первый же день по приезде, а то там всех перепугаете, — пробовал шутить я, но шутка не вышла.
— Проводили, — сказал я Савилову, когда авто скрылись из виду, — а мы куда?
— Ты — не знаю, а я — туда, — указал он рукой на монастырское кладбище, — мой маршрут ясен.
Он не хлопотал об отъезде, даже никуда не записывался.
— Зачем я очередь занимать буду? Еще на дурня чью-нибудь визу перехвачу. Человека зря обездолю.
Он ясно видел свою путевку и не ошибся. Когда полили дожди, Саков и Вуич свезли его в госпиталь.
Зашли к нему через несколько дней и попали как раз в ту минуту, когда агония подходила к концу.
Савилов лежал неподвижно, вытянув свое худое, длинное тело под серым больничным одеялом, но был в памяти и узнал их.
— Передайте Наследнику Престола Князю Владимиру, что моя последняя мысль, последнее слово о Нем.
Так и было. Больше он не сказал ни слова. Саков и Вуич донесли его последний вздох до Великого Князя. Я это знаю.
Схоронили его на итальянском кладбище, но отпевал русский священник.
— Стоило ли тратить столько сил, бороться, прорываться, пробиваться, проскальзывать, блуждать, погибать, воскресать, чтобы положить свои кости в чужую и чуждую землю? — сказал я жене.
— Стоило, — ответила она, стряхивая слезу, — уж для одного того стоило, чтобы в последний час сказать то, что он сказал, и чтобы умереть, зная, что будет услышан… тем, к кому пробивался всю свою волчью, бродяжью жизнь. Разве не стоило?
Снова лили зимние дожди и снова горели в печке собранные на свалках дрова. Котенок стал уже взрослым красавцем-котом, грозою всех крыс пароккио.
— Каждый день у него мясное, — с завистью говорит Лоллик, — по три крысы в день притаскивает!
А кот явно хвастался обилием продовольствия. Притащит здоровенную крысу, положит на средину нашей жилплощади и поглядывает: «Вот я какой!»
Вечерами горела лампа, и на ее огонек порой приползали тени… Стук, стук в дверь, и из-за нее слышится полушопот:
— Русские здесь живут?
Я уже знаю. Это какой-нибудь отсталый волк выполз из логова, где скрывался год-два. Логова были разные: погрузочные площадки генуэзского порта, крестьянские фермы, иногда монастыри.
— Как вы нашли меня? Кто сказал адрес?
— Люди сказали, — слышался всегда ответ. Очевидно, люди еще жили даже в Европе.
— Я завтра буду в лагерь проситься, а сегодня переночевать у вас можно? Больно уж дождик зачастил…
— Разместимся как-нибудь.
— Только документы вот я завтра выправлять буду… Не в порядке они немного.
— Не беда. В полиции ко мне уже привыкли, да и в такой дождь, кроме того, ни один итальянец из-под крыши не вылезет.
Что-то стелили на площадку, оставшуюся от немецкой зенитки, ночевали. Наутро тень исчезала. Имен я не спрашивал, но позже встречал иных в лагерях.
Но иногда они сами говорят свои имена. Однажды днем к нашим дверям подошел стройный красивый юноша с едва пробивавшимися усами. Здороваясь, он назвал свою фамилию. Она была мне знакома. Я читал в Белградской газете о подвиге, совершенном полковником А. в борьбе с титовцами. Он два дня защищал свой бункер против во много раз превосходивших числом врагов и, расстреляв все патроны, взорвал последней гранатой себя и единственного из оставшихся в живых соратника.
— Полковник А. ваш родственник?
— Это мой отец. А капитан А. — мой брат.
— Он где теперь? Знаете?
— Убит.
Сам пришедший ко мне А. поступил в Русский Корпус почти ребенком, при отступлении был ранен, оставлен. Под чужой фамилией проскочил в Италию. Несколько раз попадал в различные титовские, английские, советские концлагеря, то бежал из них, то выскальзывал… Длинная и странная одиссея у этой молодой, едва начавшейся жизни…
Он прожил в нашем палаццо несколько дней, пока отцы Руссикума смогли его «оформить» и отправить куда-то за океан.
Нас в лагеря не тянуло, хотя теперь слабо еще, но дули уже иные ветры. Было легче.
В новом 1948 г. на нашем пустыре появились геометры с рулеткой. Они расставляли вешки.
— Проводим новую улицу. Ваше палаццо придется снести.
Ничего не оставалось, как подать А. Н. Мясоедову просьбу о направлении в лагерь. Я подал. Приняли.
Через пару лет мне пришлось заглянуть на Монте Верде. Мое палаццо еще стояло, но было индустриализировано: окна забиты и дверь заперта. В нем хранились теперь инструменты прокладывавших улицу рабочих. Улица была все еще в проекте, и вещественная память о слободке Ширяевке еще жила.
На могиле Савилова я не был и не знаю, сохранился ли напоминавший о нем холмик желтой итальянской земли.
20. О букве «Ять» и прочем подобном
— Могу тебя поздравить! Теперь мы самые настоящие Ди-Пи, зарегистрированные в двух десятках офисов с приложением стольких же соответствующих печатей, к соответствующим местам, к счастью, не лично нашим, но бумаг нашего досье, — сказал я жене после трехчасового регистрационного пробега по офисам Чине-Читта. Сел на свои узлы, сваленные близ ворот, и облегченно вздохнул. Было от чего.