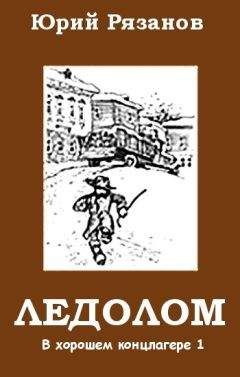Рязанов Михайлович - Наказание свободой
Через месяц, ближе к осени, объект с оборудованием нефтезавода закрыли. За ненадобностью. Нам объяснили: законсервировали. А бригаду «чистильщиков» расформировали.
В осенний слякотный день, но ещё до заморозков, я узнал от случайно встреченного дяди Саши: Саприкова постигла та же участь, что и Петюнчика. И картина при вскрытии оказалась почти такой же: небольшая каверна на лёгком.
Доктор Маслов тотчас распорядился прекратить лечение паском. Вероятно, он в этом лекарстве, тогда ещё экспериментальном, усмотрел причину ускоренной гибели обитателей ТБ-2. Это лишь моё предположение. Вскоре во время утреннего приёма больных доктор Маслов был убит ударом ножа в спину. Орудие расправы обеими руками вонзил Толик Стропило. Он же — Бацилла.
Гвозди́киГвоздики алые, багряно-пряные
Однажды вечером дала мне ты.
И ночью снились мне сны небывалые,
Мне снились алые цветы, цветы!
Мне снилась девушка, такая милая,
Такая чудная, на вид — гроза,
Мне душу ранили мечты обманные,
И жгли лучистые её глаза.
Казалось, будто бы она, усталая,
Склонила голову на грудь мою.
И эту девушку с глазами чудными,
С глазами чёрными с тех пор люблю!
Прошение о помиловании
Старый зек за махорочный бычок дал мне мудрый совет: поскольку я осужден по «делу Рыбкина», бесполезняк писать в суды. Они своих приговоров не отменяют даже тогда, когда «гады» находят настоящего виновника — такое указание якобы дано самим Гуталинщиком.[93] А вот если достаточно часто писать и отправлять просьбы о помиловании в Верховный Совет СССР, тем более с моим-то понтовым[94] преступлением, то досрочное освобождение обеспечено, как пайка. В доказательство он привёл случай, которому был лично свидетелем: бригадник, тоже сидевший «за испуг воробья», за год настрочил больше сотни просьб о помиловании. И одна все-таки дошла до Хозяина — зека выпустили.
Что ж, если рыбоподобный зек поведал всего лишь байку, всё равно она логична. Насчёт судов. Они, действительно, не отменяли своих приговоров, даже самых нелепых. Стране, строящей коммунизм, нужны были миллионы рабов, чьими руками и на чьих костях большевики и хотели возвести мифический, фантастический коммунизм. И в самом деле, какой особенный ущерб я нанёс стране? Несколько десятков рублей — моя доля в похищенном Серёгой ящике сладостей — я давно выплатил из своей каторжной зарплаты. И вообще, пришёл к твердому выводу — впредь не допускать глупостей, не поддаваться на провокации вроде Серёгиной. Так зачем же меня здесь мытарить? Ведь я уже воспитался. Всё понял, всё осознал. Да и какая от меня здесь польза? Довкалывался до того, что от истощения попал под «красный крест» и доктор Маслов, Борис Алексеевич, списал меня в обслугу — дневальным жилого барака. Вот и служу опять уборщиком. А на воле я поступил бы в школу рабочей молодежи, окончил бы её и — в медицинский институт. И из меня, наверное, неплохой врач получится. Кому от такого изменения моей жизни вред? Никому. А польза — всем. Что ни говори, а учебник логики, хранившийся в светло-синем фанерном чемодане, помогал мне разбираться в жизненно важных вопросах. Жаль, что не попался он мне раньше, до знакомства с Cepёгой, а после ареста.
Если рассудить объективно, то все мы, трое оболтусов, в тюрьму угодили из-за Серёги. Он единственный среди нас достиг совершеннолетия. И к тому же с «ходкой». Знал, чем могут закончиться подобные проделки для него и для нас тоже. И ничего не предпринял, чтобы уберечь нас от грозящей беды. И даже наоборот. Как после выяснилось. Но и мы хороши: словно слепые котята, полезли за ним, не соображая, куда и к кому. Себя я винил больше, чем Серёгу и даже беспощадней, чем следователей, кулаками и коваными сапогами заставивших нас признаться в преступлениях, которых мы никогда не совершали.
Но это дело — прошлое. А сейчас мне втемяшилось, что вина моя с лихвой искуплена — хватит мантулить[95] в лагере. Поэтому я и решил обратиться с просьбой на самый верх, в Кремль.
И засел за сочинение прошения. Писал его, волнуясь, мучительно-откровенно, правдиво и, как говорится, от чистого сердца. Искреннее раскаяние в проступке перелилось в идеальные планы моего будущего. Не будет лукавством сказать, что я открыл сокровенное. И просил Климента Ефремовича Ворошилова поверить мне. А уж я его доверие, в этом не может быть никакого сомнения, оправдаю полностью. И стану «достойным строителем нашего светлого будущего». Уже в тот августовский день пятьдесят первого проклюнулись коммунистические семена, посеянные годом раньше в мою пустынную и жаждущую душу большевиком Леонидом Романовичем Рубаном, оказавшимся волею изменчивой судьбы брошенным на нары землянки ещё одного вспучившегося лагеря — нарыва на теле Красноярского края, как и на других территориях СССР.
На фоне кровавого воровского разгула, громыхания похабщины и угроз, оскорблений и унижений шёпот Леонида Романовича (он тяжко болел и не мог говорить громко, и я по возможности ухаживал за ним), так вот, на фоне блатного беспредела его шёпот о добровольных комсомольских стройках и бескорыстных поступках молодых ленинцев слышался, пусть меня простит читатель за столь пышное сравнение, — набатным гулом. А люди, о которых так вдохновенно рассказывал комиссар, виделись мне истинными героями, достойными, чтобы походить на них, подражать им.
У врача-чекиста, иногда навещавшего Рубана, почти умирающий от жестокой желтухи политзек выпрашивает не глюкозу, столь необходимую ему, а роман Николая Островского «Как закалялась сталь» и передаёт его мне для прочтения! Моя наивность ещё оставалась потрясающе дремучей, глядя с высоты сегодняшнего дня. Я не только перечитал эту книгу — Рубан как опытный пропагандист и агитатор закрепил во мне содержание романа и его штыковую идею своими личными воспоминаниями. Удивительно: он, кого уголовники с презрением и издёвкой называли фашистом, фанатично верил в коммунистические идеалы, самое дорогое в его жизни. Блатари прямо заявляли, что коммунизм — фуфло и хуйня. Если перевести матерное определение на нормальный человеческий язык — обман. Я им не верил. Не хотел потерять точку опоры в жизни.
Итак, я созрел, чтобы сознательно и добровольно строить светлое будущее вместе со всем нашим славным советским народом, который уверенно вёл вперёд к великим победам величайший вождь всех времён и народов Иосиф Виссарионович Сталин со своими верными соратниками. Я ещё не осознавал, что уже строю это будущее. И что окружающее меня омерзительное сборище отбросов и уродов — тоже часть народа. Я этого не пожелал, не смог бы признать, если б кто-то мне такую мысль подкинул. Чёткая линия разделяла тогда видимый и ощущаемый мною мир, расколотый надвое. Даже — на два мира. И я эту линию раскола видел каждый день своими глазами — запретная зона. По одну сторону — чудовищный мир несправедливости и бесчеловечности, по другую — стройка того самого светлого и прекрасного будущего. И даже это созидание — тоже светлое. Леонид Романович и такие, как он, ввергнуты сюда, в ад кромешный, по чьей-то ошибке. Я и такие, как я, — за свои собственные. Логика такова (как я полюбил её, логику, — ни шагу без неё): только честный и добросовестный человек достоин счастья. Строить счастливое будущее — это и есть счастье. Будь честным, и добьёшься этого права. Честно жить — значит трудиться. И чем лучше, тем быстрее сможешь переступить ту линию, которая пока отделяет тебя от настоящего мира. Мир неволи мне часто казался нереальным, а я словно бы и существовал в нём, но лишь своей физической оболочкой, духом оставаясь там, в другом запроволочном мире.
Я принялся работать ещё упорней, порою превышая свои физические возможности. Меня ничуть не страшило и не заставило задуматься, разумно ли я себя веду, даже то, что через какое-то время после рекордистских триумфов я окончательно опять обессилел. Из кожи вон лез, но уже не мог выполнить даже сотку.[96] Попал в ОП (оздоровительный пункт). Потом опять обливался горячим потом с утра до вечера. Перевели с бригаду УП (усиленного питания). Но и питание с двойной кашей и килограммовой горбушкой не помогло — вынужден был согласиться на дневальство, продолжая мечтать: набравшись силёнок, перейти в производственную бригаду, на промышленный объект. Зачем? Да всё с той же целью. За ударный труд (более полутора норм) зеку к отбытому дню присоединялись ещё два. Отбыл календарный год, а тебе засчитывают три!
Кое-кто из знакомых зеков стал меня подозревать: не чокнулся ли я? Не совсем, а на зачётах. Они существовали по другой логике: если ишачить в мыле для досрочки, то подохнешь быстрее, чем наступит льготное освобождение. Я уж не говорю о мудростях типа: день кантовки[97] — месяц жизни. Сторонники другой логики, вероятно, тоже были правы. У каждого из нас была своя цель.