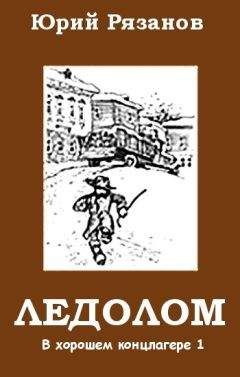Рязанов Михайлович - Наказание свободой
Во время врачебных обходов я неизменно заявлял Маслову, что чувствую себя хорошо, даже не кашляю. Я и в самом деле, отоспавшись, приободрялся и охотно помогал другим обитателям барака, дяде Саше, Александру Зиновьевичу. Повторные анализы подтвердили, что у меня не обнаруживаются палочки Коха. А тёмное пятно в лёгких — всего лишь, как решил рентгенолог, заизвестковавшаяся старая ранка — очаг Гона.
И всё-таки Маслов не спешил выпроводить меня в общую зону.
Я не скрывал радости, когда, наконец, меня выписали из ТБ-2. Попрощался со всеми и, конечно же, с новым другом. И обещал его навещать, ведь он так нуждался в участии.
Петя достал из соломенной подушки завёрнутые в носовой платочек деньги, протянул их мне со словами:
— Возьми, сколько надо.
Я долго отказывался, но всё же — взял. И тогда он поверил, что я выполню обещание — куплю заветную кринку молока.
Что мне запомнилось, так это сухие, растрескавшиеся губы Пети и совсем истончавшие пальцы рук с утолщенными, как концы барабанных палочек, верхними фалангами. Говорил он тихо, временами его голос совсем слабел и пресекался. Мне было жаль парнишку больше, чем самого себя. Чем-то он напоминал мне младшего брата, от которого я изредка получал письма из дома.
Не оставляли меня размышления о Пете и когда я покинул ТБ-2. Жизнь моего друга была такой же небольшой и неудачной, как у меня. И в тюрьму он угодил за сущую чепуху, глупость, за которую надлежало ему дать ну подзатыльник — большего наказания никак не заслуживал. А его, шестнадцатилетнего, он и паспорт-то не успел получить, «призвали» на семь лет. В концлагерь. По только что принятому указу от четвёртого шестого сорок седьмого. Сейчас ему, как и мне, шёл двадцать первый.
Как-то утром Петюнчик спросил меня:
— У тебя есть девушка?
— И есть, и нет, — признался я. — Никакой надежды.
— Почему?
— Потому что она очень хорошая… Честная, чистая. Не то, что я.
— А у меня и не было. Я даже с бабой ни разу не переспал.
— Ничего, освободишься, вылечишься, ещё будут и у тебя девушки.
— Одна будет, — равнодушно произнёс Петюнчик. — И та — без носа.
— Да не трепись ты, — подбодрил его я. — Мы же с тобой ещё молодые. У нас — всё впереди.
Собеседник мой лишь вымученно улыбнулся.
После ТБ-2 меня перевели в другую бригаду, на лёгкий труд — саманные кирпичи лепить из глины и соломы. В бригаду эту собрали доходяг со всего лагеря, больных, послеоперационников, инвалидов даже, например саморубов. После дня «лёгкого» труда у меня поясница разболелась — ни согнуться, ни разогнуться, так наплясался и накланялся за десять часов. Но я всё же похромал в столовую, пересилив боль.
Делать саманные кирпичи несложно: в яме размешивается глина, в которую добавляется мелко нарезанная солома. Вымешивать раствор лучше всего босыми ногами. Готовое «тесто» набивается в формы, кирпичи вытряхиваются на площадку для просушки. Бригадники словно сговорились: кирпичи, килограмма по четыре каждый, получались один хуже другого, многие разваливались тут же, на дощатом щите. Я никак не мог усвоить лагерное правило: чем хуже, тем лучше. И наформовал меньше других. Благо, что с нас не требовали выполнения нормы и не наказывали за отставание. Зато ни один мой высушенный кирпич не рассыпался при погрузке.
Едва ли не с самого первого дня, когда судьба бросила меня на саманный участок, я попросил прораба, бывшего большого партийного начальника, сосланного в Черногорск за какую-то провинность, купить на городском базаре кринку топлёного молока — для больного друга. Но ему всё недосуг. В конце недели бригадир, тёртый зек с самолично отрубленной кистью левой руки, подсказал мне, несмышлёнышу, что следует для ускорения исполнения просьбы дать вольняшке «на лапу». Денег побольше или что-нибудь стоящее. О деньгах нечего было и говорить, а из стоящего у меня имелась лишь одна вещь — пара новых рабочих ботинок: кожаный верх, резиновые подошвы с пупырышками. Я эти ботинки сэкономил, второй сезон в старых проходил, чиненых-перечиненных. Беpёг на счастливый случай вместе с чистым комплектом зековской формы — курткой и штанами. Вдруг освободят? Смотавшись в каптёрку, извлёк из светло-синего фанерного чемодана с двойным дном драгоценные мои ботиночки и ухитрился вынести их из зоны на рабочий объект.
Ботинки прорабу приглянулись, и он пообещал побыстрее выполнить заказ. В тот же вечер я побежал в тэбэ-два и сообщил Пете приятную новость. Он к открытому окошку с трудом подшаркал и лишь виновато улыбался да тяжко дышал. Видно, и говорить ему было нелегко. Но известие моё его оживило. К тому же я добавил, что прораб посулил к молоку присовокупить и палку копченой колбасы.
— Можно тебе копчёное? — спросил я.
— Мне уже всё можно, — улыбаясь, ответил Петюнчик.
— А Борис Алексеевич разрешил?
Он кивнул. На опухшем и поэтому почти неузнаваемом лице друга еле проглядывали в узкие щёлки лихорадочно блестевшие глаза. Внешний вид Пети меня встревожил, хотя я и пытался успокоить себя. Я испытывал робость перед Борисом Алексеевичем и понимал, что беспокоить его, человека очень занятого, ведь он и спал-то не более четырёх часов в сутки, не следует без нужды. И всё же рискнул и направился к нему в каморку при терапевтическом отделении больницы, в барак ТБ-1. Было поздно, дядя Саша сначала не хотел меня пустить. Но я уговорил его. И вот я в кабинете Бориса Алексеевича. Каморка его тесна, в неё едва уместились стол, стул и раскладушка-топчан. Кругом всё завалено какими-то папками. Ходят слухи, что по ночам Маслов работает над докторской диссертацией. Борис Алексеевич внимательно выслушал меня и сказал:
— Не было б у нас тюрем и лагерей — не было бы и туберкулёза, Рязанов. Выводы из этого делай сам.
— А Петя не умрет? — преодолел я свою робость.
— Все люди смертны, — как-то не очень охотно ответил доктор. — Поверь мне: я сделаю всё, чтобы поддержать парнишку.
Такой вот разговор у нас вышел.
На доктора Маслова, на его искусство исцелять, на его доброту я только и рассчитывал и верил, что он не даст Пете совсем скопытиться, то есть превратиться в «лежачего».
Ещё с неделю я каждый день надоедал прорабу, он даже сердиться на меня начал. Наконец, получил полнёхонькую двухлитровую стеклянную банку действительно топлёного молока и кольцо пахучей копченой колбасы. Банку я весь день держал в ведре с холодной водой, а с колбасы глаз не спускал. На вахте всей бригадой мы убедили надзирателей разрешить пронести в лагерь купленные продукты, и среди вертухаев встречались люди добрые и понимающие. Я сразу поспешил в «свой» туберкулёзный барак.
— Петя, — окликнул я друга в открытое окно. Но подошёл к нему испуганный Саприков, ещё более костлявый и длинный на вид, чем раньше.
— Нет его, — произнёс срывающимся голосом он.
— А где он? Позови нацирлух, — нетерпеливо попросил я и почувствовал неладное: неужели?
— Нет его. Совсем нет, — повторил Саприков. На выручку к нему подошёл другой тэбэцэшник, пояснив:
— Дуба дал Петюнчик. Позавчера. Вечером.
Я остолбенел, и колбаса с банкой чуть не вывалились из моих рук — не мог поверить. Хотя ясно было: со мной не шутят. Может, поэтому меня и сковала немота. Наконец, я вымолвил:
— Топлёное молоко ему принёс. И колбасу.
— Он ждал тебя. Да не дождался, — сказал тот же тэбэцэшник.
— Возьми, — неожиданно для себя предложил я и протянул продукты Саприкову. Он нерешительно принял их.
— Стропило его уже распотрошил, — продолжал словоохотливый больной. — Дядя Саша говорит: туберкулёз почек. А на лёгких всего две дырки. Одна с трёшку, другая — с копейку — совсем хуйня.
В этих подробностях я не нуждался. Но в голове у меня засела и стала прокручиваться, как испорченная пластинка: четыре копейки, четыре копейки, четыре копейки…
У окна сгрудились другие обитатели ТБ-2. Уже кто-то лапал банку, другие дёргали колбасу, а Саприков прижимал их всё крепче к груди.
— Ну ладно, — сказал я. — Молоко и колбасу поделите на всю палату. Как на поминках.
Повернулся и зашагал к себе в барак. Чудовищная усталость навалилась на меня. Я остановился и закурил. Мне стало очень тошно оттого, что так произошло. Надо ж подобному случиться: всего два дня! Я, правда, был тут ни при чём. Но и Петюнчик не дождался, не успел получить то, о чём так долго мечтал и чему был бы несказанно рад. Может быть, это была бы последняя его радость. Последняя… А может, это топлёное молоко поддержало бы, придало бы сил. Ведь иногда так мало надо, чтобы всё изменить роковым образом…
Через месяц, ближе к осени, объект с оборудованием нефтезавода закрыли. За ненадобностью. Нам объяснили: законсервировали. А бригаду «чистильщиков» расформировали.
В осенний слякотный день, но ещё до заморозков, я узнал от случайно встреченного дяди Саши: Саприкова постигла та же участь, что и Петюнчика. И картина при вскрытии оказалась почти такой же: небольшая каверна на лёгком.