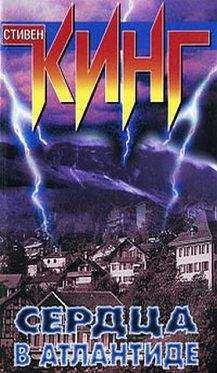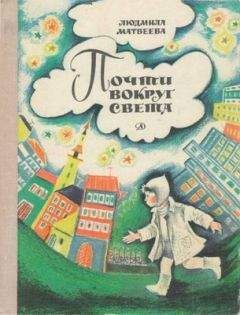Филип Рот - Призрак уходит
И такой взгляд на вещи утешает. Оказывается, что писатели, которые вроде бы делают вид, что они выше нас, на самом деле не только не выше, но ниже. Оказывается, гении чудовищны!
Настоящее литературное произведение с большим трудом поддается и пересказу, и описанию. Чтобы справиться с этим, нужна большая работа мысли, а это не то, что устраиваем журналистов отдела «Культура». Только то, что предположительно легло в основу произведения, должно рассматриваться всерьез, и только эти ленивые журналистские выдумки должны считаться литературой. Истинная природа вдохновения породившего ранние рассказы Хемингуэя (вдохновения, позволившего тоненькой пачке страниц придать американской прозе новое дыхание), слишком сложна для журналиста, ведающего культурой и превращающего осмысленный английский язык в пустопорожнюю болтовню. Если такому журналисту велят опереться «только на сам рассказ», он не выдавит из себя ни звука. Воображение? Нет никакого воображения Литература? Нет никакой литературы Тончайшие, да и не только тончайшие, нюансы обращаются в прах, и остаются только прототипы, чьи чувства задеты тем, как их «описал» Хемингуэй. Имел ли Хемингуэй право?.. Имеет ли любой писатель право?.. Сенсационный культурный вандализм маскируется под ответственное отношение газеты «к искусству».
Если бы я обладала властью Сталина, я не растрачивала бы ее на то, чтобы заткнуть рот писателям, наделенным воображением, а заткнула бы глотку пишущим о писателях с воображением Я запретила бы дискуссии о литературе в газетах, журналах и ученых записках. Я запретила бы толкование литературы во всех школах, колледжах и университетах страны. Я объявила бы вне закона читательские кружки и треп о книгах в Интернете и заставила бы полицию следить за тем, чтобы продавцы книг не болтали о них с покупателями или друг с другом Я оставила бы читателя один на один с книгой, чтобы он почерпнул из нее что может И я сохраняла бы этот порядок столько веков, сколько потребуется, чтобы очистить общество от яда вашей пошлости.
Эми Беллет
Прочти я все это, не зная Эми, не обнаружил бы никакого подтекста и сочувственно встретил бы эту вспышку острого раздражения, хотя, давно выйдя из крута, который Эми назвала «культурной журналистикой», к счастью, освободился от склонности думать и говорить о нем так, как это делала она. Но в данных обстоятельствах мне показалось, что подлинные цели автора приоткрывает несколько фраз второго абзаца, которые я перечел, пока она возилась в кухне с чаем, тостами и джемом. «В каких проступках замечен писатель? Причем речь вовсе не об отступлениях от эталонов литературной эстетики, а о проступках по отношению к дочери, сыну, жене, отцу, матери, другу, издателю, кошке или собаке». Почему в этом перечне нет сестры — потому, что писавшая не совсем понимала причину охватившего ее негодования, или, напротив, потому, что прекрасно эту причину осознавала и тщательно следила за каждой строчкой, чтобы опухоль как-нибудь ненароком не протащила сюда сестру?
У меня было впечатление, что это письмо в «Таймс» связано, прежде всего, с активностью Ричарда Климана.
— И какую оценку выставил тебе Мэнни за эти точные и колкие слова? — спросил я, когда она, с полным подносом в руках, вошла с кухни.
— Он не выставил мне оценки.
— И почему же?
— Потому что писала не я.
— А кто?
— Он.
— В самом деле? А раньше ты говорила, что все это бред полоумной старухи.
— Я не открыла всей правды.
— То есть?
— Все это продиктовано им. Все слова здесь — его. Он сказал: «С нами — и пишущими, и читающими — покончено. Мы призраки, свидетели конца литературы. Запиши это». И я сделала, что он велел.
Я засиделся у нее далеко за полночь. Почти не говорил, услышал многое, едва ли не всему склонен был верить, почти во всем находил смысл. По моим ощущениям, она ни разу не попыталась сознательно что-либо исказить. Но из-за торопливости, с которой она выплескивала информацию, подробности некоторых историй причудливо переплетались и создавали ощущение, что она полностью во власти своей опухоли. Или что опухоль опрокинула все препятствия, обычно выставляемые общественными запретами и условностями. Или что эта безнадежно больная и одинокая женщина попросту тонет в интересе, впервые после стольких лет проявленном к ней мужчиной. Женщина, полвека назад прожившая четыре бесценных года с блистательным возлюбленным, чья честность, как ей казалось, служила основой и его жизни, и его мастерства, а теперь могла быть поставлена под сомнение из-за необъяснимой «мелкой зависти ничтожества к большому писателю», ничтожества, возомнившего, что оно сумеет написать биографию ее любимого. Возможно, весь этот водопад слов выдавал только то, как долго и тяжко она страдает и как давно одинока.
Странно было следить за тем, как ее сознание то замыкалось в себе, то вырывалось на волю. А временами пугающе деформировалось, и она, несколько часов не замолкавшая, вдруг вскидывала на меня усталый взгляд и с юмором, чересчур изощренным для моего понимания, спрашивала: «Скажи, а мы с тобой были женаты?»
— Насколько мне известно, нет. Но был момент, когда мне этого хотелось, — ответил я со смехом.
— Хотелось стать моим мужем?
— Да. В юности, когда мы встретились у Лоноффа, я подумал, как было бы замечательно стать твоим мужем. Ты была тем, что стоило удержать.
— Да? Была? Правда была?
— Чистая правда. Ты казалась ручной и сдержанной, но твоя необычность была очевидна.
— Абсолютно не понимала, что делала.
— Тогда?
— Тогда, сейчас, всегда. Не понимала, как рискую, соединяясь с мужчиной настолько старше меня. Но он был неотразим. Это его стоило удержать. Я так гордилась, что вдохнула в него любовь. И как только это мне удалось? Я так гордилась, что совсем не боялась его. Но жила в постоянном страхе: страшилась Хоуп и того, что она может сделать, страшилась того, что сама делаю ей. Но совершенно не понимала, как раню его. Мне нужно было выйти замуж за тебя. Но Хоуп разорвала брак, и я сбежала с Лоноффом. Наивно, ничего не понимая, в убеждении, что поступаю как взрослая женщина, идущая на огромный риск, а на самом деле возвращаясь в детство. И правда в том, Натан, что я так и осталась в детстве. Ребенком и умру.
Была ребенком, потому что жила с человеком настолько старше? Оставалась в его тени, относилась к нему с обожанием? Почему этот мучительный союз, разрушивший столько ее иллюзий, стал силой, замуровавшей ее в детстве?
— Не скажешь, что ты вела себя по-детски.
— Не вела.
— Тогда я не понимаю, что значит это твое «была ребенком».
— Нужно открыть тебе все? Да? Нужно?
И вот тут жизнеописание, которое я сочинил для нее в 1956-м, наконец уступило место подлинной биографии, которая пусть и не поражала взвинченной символикой, придуманной в те давние времена, но совпадала со многими моими тогдашними умопостроениями. И это было неизбежно, потому что ее судьба разворачивалась на том роковом континенте и в то роковое время, слитая с уделом отмеченного роком народа, врага господствующей расы. Развоплощение образа, в который я воплотил ее, не изменило судьбы, уготованной ее семье, как и семье Анны Франк. То было бедствие, чьих масштабов не изменить произвольно, чью подлинность не разрушить воображением, — бедствие, память о котором не вытеснить даже раковой опухоли, пока эта опухоль не привела еще к смерти.
Вот так я и узнал, что Эми приехала не из Голландии, где я мысленно прятал ее на замаскированном чердаке склада, фасадом выходящего к амстердамскому каналу, — на чердаке, что позднее станет музеем-храмом мученицы Анны, а из Норвегии (Норвегия — Швеция — Новая Англия — Нью-Йорк), то есть, по сути, из ниоткуда, проделав этот путь наравне со многими и многими еврейскими детьми, ее сверстниками, родившимися не в Америке, а в Европе и чудом избежавшими смерти во время Второй мировой войны, хотя их детство совпало со зрелостью Гитлера. Вот так я узнал обо всех этих страданиях, которые всегда будут возмущать слушателя, вызывая в нем ярость и изумление. В рассказчице ярость не клокотала. И уж конечно она не испытывала изумления. Чем глубже она погружалась в несчастья, тем больше ею завладевало обманчивое спокойствие. Как если бы эти потери могли когда-нибудь отпустить ее душу.
— Моя бабушка — из Литвы. Предки со стороны отца — из Польши.
— Что привело их в Осло?
— Дед с бабушкой оставили Литву ради Америки. Но когда добрались до Осло, дальше их не пустили, и там они и остались, так как американское консульство отказало им в праве на въезд. Мама и дядя родились в Осло. Отцу довелось побывать в Америке, это было похоже на юношеское приключение. Когда он возвращался в Польшу, началась Первая мировая война. В тот момент он был в Англии и решил не ехать домой, чтобы не идти в армию. В результате застрял в Норвегии. Шел тысяча девятьсот пятнадцатый год. И он познакомился с моей мамой. Несколько раньше евреям не разрешалось селиться в Норвегии. Но один очень известный норвежский писатель развернул кампанию в их поддержку, и с тысяча девятьсот пятого года они начали получать разрешение. В пятнадцатом году родители поженились. Нас было пятеро: четыре брата и я.