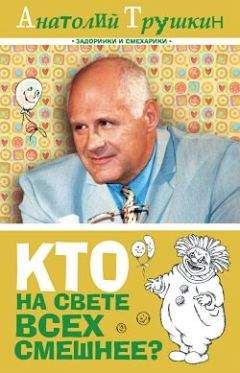Журнал «Новый мир» - Новый Мир. № 3, 2000
На выигранные у Боба и Гуни ты купил и «Эстонию», и «Юпитер», и что-то еще.
Наверное…
Все остальное, что я могу дописать о тебе, что мне удалось вырвать из бессвязности, выведать из редких встреч с однокашниками (я всегда спрашивал, к их недоумению, о тебе), совершенно лишено чувственности и складывается в несложную однозначную схему: ты, как письмо, попал в тот же «почтовый ящик», где лежали заклеенными твои родители, и самый неожиданный кульбит судьбы — тебя призвали на два года офицером в какие-то там войска, где ты стал настоящим Германном, и все остальное, касающееся твоего достоверного исчезновения, покрыто тьмой и стало сумраком.
Ты стал равен сам себе.
Кононов Николай Михайлович родился в 1958 году в Саратове. Окончил физфак Саратовского университета и аспирантуру по философии ЛГУ. Автор четырех поэтических книг. Живет в Санкт-Петербурге. Постоянный автор журнала.
Борис Викторов
Птица и человек
Затон пропитан керосином,
теряешь в пекле раскаленном
грачей, купающихся в синем
и пропадающих в зеленом.
Закат — над вырубленной согрой,
где хмель — дыханием тяжелым
укрыл сливающихся с охрой,
отогревающихся в желтом.
Скитаясь, ты искал напрасно
в горячем мареве костерном
птиц, забывающихся в красном,
запоминающихся в черном…
Окрест — пустуют интернаты,
ветвь над излучиною гнется
и держит в воздухе пернатых
бомжей разрушенные гнезда.
Голь островная из приблудших
давно отравлена портвейном,
знать не желает доли лучшей,
и снятся пасынкам ничейным
лишь остов церкви обгорелый
да хлопья сажи — за плечами.
И тополь — белый, белый, белый,
как ангел с черными очами.
Время третьей стражи,
откровенных слов.
Ночь — темнее сажи
и черновиков.
Жизнь пощады ищет,
ропщет не дыша,
как на пепелище
женская душа.
В это время слышен
под горой ручей
и тростник, а выше
крик грачей…
Грачиный остров навсегда
покинут — гибнет на глазах
испепеленная звезда
в переплетенных проводах.
Песчаный берег сиротлив,
за штабелями горбылей
худая лодка среди ив,
чужая колыбель.
Закат над выбитым окном,
как полоумный керогаз,
еще, наверно, во втором
тысячелетии — погас…
Молчи! Я вижу отчий дом,
и колыбель перед крыльцом,
и сгусток света над гнездом,
и мать с отцом!
Берег, даль и деревья хмурые
крепко связаны арматурою
разветвленных кривых стволов —
узнаю незабвенный кров!
Узнаю вас, причалы людные,
луны медленные приблудные,
плащ-болонья в траве сырой,
две орешни над головой.
…Пролетело сто лет, два месяца.
Сад разросся, кора в смоле.
И зарубки, как в небо лестница,
еще держатся на стволе.
Еще держатся дни прекрасные
паутинками на стекле,
и змеиное керогазное
пламя синее на столе…
Гаснут бакены вдоль излучины,
пришвартует луной к земле
лодку с выщербленной уключиной
при ушедшем в песок весле.
Кран следит, как течет созвездие,
одинок в предрассветной мгле,
словно в прошлом тысячелетии
черный грач — об одном крыле.
В стаю сбивались наутро,
в небо вонзались, как скобы.
Вдоль побережия смутно
перья их брезжили, будто
сброшены старые робы.
Это грачиная стая,
не отставая,
с нами прощалась, держалась
в воздухе, смешанном с дымом.
Это потом продолжалось
в сердце, как боль или жалость
или тоска по любимым.
На рассвете брошенная в пламя
рукопись сроднится
с голосами птиц, листвой, дымами;
наших встреч последняя страница
вспыхнет, как береста,
в воздухе холодном растворится,
все ж наутро стаей обернется!
А чуть позже перья на поляне
снегом занесет… И оборвется
крик грачей над пристанью в тумане.
1998.
* * *«Как ветла расшумелась!» — Суровы
посвист ветра и гул проводов,
и гремит на мосту маневровый,
словно кто задвигает засов.
День грядущий бессмертною кроной
погружается в небо Москвы,
чей сюжет крестовиной оконной
поделен на четыре главы.
В первых трех, дорогих бесконечно,
соловьи поселились давно.
А четвертой нам знать не дано.
Чтобы свет не слепил, ты навечно
затворила окно!
Чайка парит, останемся здесь, похоже,
на берегу, где осенью в полумгле
листья причалят к лодке — какое ложе! —
одновременно в море и на земле.
Веки смежив, останемся под орешней,
пусть впереди, как огненная стезя,
фосфоресцирует побережье,
дальше идти нельзя.
Здесь наша родина и темница,
гул нарастающий и ночлег,
и ослепительная зарница —
одновременно птица и человек!
Викторов Борис Михайлович родился в 1947 году в Уфе, жил в Сибири и Молдавии, последние двадцать лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических книг, вышедших в Молдавии и Москве. Печатался в журналах «Дружба народов», «Юность», «Арион», «Континент», альманахах поэзии и др.
Марина Палей
Lond Distance, или Славянский акцент
Сценарные имитации
Фильм третий
LONG DISTANCE
(с русскими субтитрами)
CAST:
Телефон.
Женщина с телефоном.
Женщина с любовником, или Она.
Любовник женщины с любовником, или Он.
Иммигрант монголоидного типа (Shkhinozean).
Сцена 1
Сначала экран кажется полностью темным. Но вот отдаленные звонки телефона обостряют наше зрение. После двух или трех сигналов, в левом верхнем углу экрана мы начинаем различать горящую букву «L». Звонок… Звонок… Неожиданно близко слышится громкое бормотанье: «Хага!.. Шамга ту… киржа рош!..»
Включение слабого света (настольной лампы). Она освещает экзотического иноплеменника: дряблость кожи, тщедушность марсианина, человечья нечистоплотность конских волос. Вынырнув из постели на полу и подпрыгивая на одной ноге, он судорожно натягивает джинсы. Это Shkhinozean. Звонки продолжаются.
Shkhinozean. Хага! Шамга ту киржа рош! Аржанат тхажда яктасу! Мал-сумал! мал-сумал гун йомаш рош!
Шхинозиец. Дьявол! Даже ночью отдыха нет! Это место проклято! Ни в чем! ни в чем удачи мне нет!
Он подскакивает к букве «L» (это освещенная извне половина дверного контура), — поворачивает ключ…
Сцена 2
Close up: женщина с телефоном. В одной руке трубка, в другой — Paradisian Bird (Райская Птица). В доли секунды мы успеваем отметить: странный цветок изыскан и закономерен на фоне профиля женщины, — она держит его за длинную ножку с маленьким золотым веером на конце.
Женщина с телефоном. Але? але? (Взрыв счастья.) Ой, привет!! Ты где?! где?!. (Медленно вешает трубку.)
Телефон висит на стене коридора — длинного, давно обшарпанного, но так и не обжитого. Один конец этой кишки упирается в дверь с цифрой «3» и смотровым глазком (это, видимо, гостиничный или общежитский номер), другой — в окно, зарешеченное жалюзи. За окном ночь. В стене, напротив телефона, два проема. У стены с телефоном, строго под ним, приткнулся инвентарно-канцелярского вида тощий железный столик. Рядом торчит стул. Возле окна, поставленное на пол, тусклеет массивное, седое от пыли зеркало. Возле него, попирая тригонометрию и здравый смысл, лежит снятая с петель, перевернутая дверь. Прислоненная к стене длинным торцом, она дополнительно крепится к ней паутиной.
Снова звонит телефон.
Женщина с телефоном (срывает трубку вместе с аппаратом). Где ты, где?! да! отку… (Ставит телефон на стол и кладет трубку.) Спасибо…
Кладет на стол цветок, вешает на стул сумочку, быстро расстегивает пальто и бросает туда же.
Одета она очень нарядно, в восточноевропейском стиле (то есть с большой тщательностью и явным напряжением). Эту очевидную кропотливость не могут скрыть даже длинные цепи крупной (и как бы небрежно болтающейся) бижутерии.
Неотрывно глядя на телефон, она стоит под прицелом цветка. (Он горизонтален. Стебель нацелен в тело.)