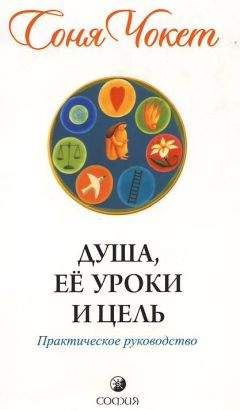Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 11 2006)
— Да.
— Налей чайку мальчику, — попросила Марьяна.
Англичанка, выражая недовольство всей фигурой, занялась приготовлением чая.
Воскобович сел в углу, прижимая к себе стопку книг в твердых переплетах, — жития и письма святых.
— Я книжки взял почитать, — сказал он, глядя в пол.
— Может, не надо тебе читать-то, хватит уже? — отозвалась Англичанка. — Не дай Бог, хуже станет.
— Скушай лучше котлетку, сынок, — сказала Марьяна.
— Спасибо. Я не хочу. — Воскобович сказал, а после, с запозданием, отрицательно замотал головой.
Англичанка дала ему чашку чая. Воскобович принял чашку, подержал ее в руках, поставил на пол и только потом понял, что обжег ладони. Крепко прижал их к щекам. Щеки были холодные.
Установилась тишина. Англичанка бросила взгляд на бывшего студента. Он так и сидел прижав ладони к щекам.
Матушка Марьяна стала резать лук. Нож застучал по деревянной доске.
— А вот я не пойму, — начал Воскобович медленно. — Как спасутся те, кто православную веру не исповедует?
Матушка Марьяна высыпала лук в кипящую воду.
— У апостола сказано: невозможное человекам возможно Богу, — сказала она, вытирая фартуком руки. — Но лучше у батюшки спросить. Он тебе на любой вопрос ответит. Хотя я в книге читала, что иноверцам спастись будет сложно.
После этих слов Воскобовичу стало совсем нехорошо. Ему до слез было жалко бедных людей, которые не смогут спастись. А еще Воскобович жалел себя, потому что у него нет никакой ясности (даже после долгого разговора с отцом Леонидом), а у этих женщин есть. Все им в мире понятно до такой степени, что они позволяют себе совершенно расслабиться. Готовить еду да еще и напевать себе под нос.
Воскобович несколько раз закрыл глаза, но они все равно были как будто открыты. Он уже не понимал, где находится, в трапезной или в каком-то другом месте. Ему было очень больно, потому что никто по-настоящему не понимал, что он чувствует. Никто его не слышал.
Воскобович встал и, ни слова не сказав, вышел. Женщины посмотрели ему вслед. Матушка Марьяна сочувственно, а Англичанка несколько осуждающе. Буквально через несколько секунд за пределами трапезной послышался звон стекла.
— Что это? — У матушки Марьяны округлились глаза.
Англичанка, не говоря ни слова, бросилась в коридор.
Еще раз глухо бухнуло несколько раз об пол, и посыпались осколки. После установилась тишина. Затем в трапезной появился Воскобович. Он передвигался мелкими шажками и смотрел долу. За ним шла разгневанная Англичанка.
— Ты зачем банки разбил? — спросила Англичанка грозно.
— Не знаю. — На Воскобовича было жалко смотреть.
— Представляешь, забегаю, а он стоит и задумчиво банки наши на пол сбрасывает. Аккуратно так, пальчиком.
— Много разбил? — поинтересовалась матушка Марьяна безо всякой паники.
— Да почти все! Пятилитровые! — Англичанка захотела плюнуть от досады, но вовремя вспомнила, что в храме плеваться не принято. Банки под огурцы они с Марьяной собирали уже полгода.
Англичанка покачала головой и произнесла:
— Принимает больных людей, а потом говорит, что непорядок. — Англичанка говорила об отце Леониде, но имени его не называла. — Парню в больницу надо.
— Подойди сюда, — сказала матушка Марьяна Воскобовичу ласково. — Возьми веник и совок и пойди все за собой аккуратно убери. И главное, не порежься.
— Ты что, совсем? — Возмущению Англичанки не было предела. — Он же вообще не соображает, что делает.
Недовольная Англичанка сама взяла совок с веником и отправилась в коридор, подметать осколки.
Воскобович сел на скамейку, взял рыбную котлету и начал есть.
Медленно и неумело, как будто делал это первый раз в жизни. Котлета была мягкая и вкусная. Воскобовичу стало немножко легче.
Незримая твердь
Куллэ Виктор Альфредович родился в 1962 году на Урале. Поэт, переводчик, комментатор собрания сочинений Иосифа Бродского. Работает редактором в московском издательстве “Летний сад”.
Гамлет
Геннадию Айги.
Подмостки обернулись мышеловкой,
и занавес захлопнется вот-вот…
Речь поражает дьявольской сноровкой —
и стынет зал, лишь он раскроет рот,
чтобы явить свое устройство горла,
чтобы изречь очередную чушь…
Мысль ссохлась до модального глагола,
и пбочат список обреченных душ.
Он увлажняет горло той же смесью,
что ядом закалила сталь клинков…
Что есть искусство? — лишь борьба со смертью.
Как и любовь. Прочнее, чем любовь.
* *
*
Завместо чем уйтить в отвязку,
дабы не утерять лица,
пустырниковому отвару
дай настояться с утреца.
Не черт-те что, но в этой каше
ты, убежденный некрофил,
все чаще честно пропускаешь
жизнь через легкие, как фильтр.
И выдыхаемая нежить,
преображаемая в вязь,
не оправдает твой позднейший
уход в кладбищенскую грязь,
поскольку ни одна работа
не стоит, ежли по-людски,
глаз нерожденного ребенка,
слез мамы, батиной тоски…
* *
*
Вкруг зрачков золотистые точки.
То расплывчат, то жуток и точен
взгляд, кладущий меня на весы.
Он не западен и не восточен —
мириадами женщин отточен
и чуток по привычке косит.
Этот взгляд становился под вечер
то лиричен, а то недоверчив,
хоть затвержен зрачком наизусть.
Ты спроси у меня — я отвечу.
Речью вычурной жизнь изувечу
и по новой, как в омут, влюблюсь.
Ты спроси, из какого позора
прорастают стихи. Не из сора —
из тоски, из бессильных потуг,
из гордыни, ребячества, вздора…
Фортель детский. Минутная ссора.
Воздух йок — и светильник потух
если б разума — похоти темной,
скотства, ревности… Что ж, подытожим.
Ты спроси и сама же ответь:
правда, думаешь похоти только?..
Но и страсти беспримесной тоже,
и беспримесной нежности ведь!
В миг, когда, растворяясь зрачками,
языками, губами, руками
мы с тобой становились одно, —
в мерных паузах между толчками
я поверил, что жившее в каждом
отчужденье преодолено.
С любопытством, присущим ребенку,
я отслеживал лунную пленку,
застилавшую эти глаза
перламутром в преддверье полета.
Это было не празднество плоти —
но стремление вырваться за
косный круг представлений расхожих,
расщепивший на две непохожих
чуждых особи хаос людской.
Снять ментальный барьер, уничтожить
пустоту, просочиться сквозь кожу,
окончательно слиться с тобой!
Но такая попытка чревата
неизбежным — началом распада.
Так, застряв между явью и сном,
не въезжаешь, что это — расплата...
Детской дури во мне многовато —
я и сам понимаю давно.
Пусть нещадное это горнило
растворило меня, сотворило —
что тебе до мужских катастроф?
Ты очаг от разора хранила
и тихонько меня хоронила
под лавиной несказанных слов.
Есть у женщин недобрая сила —
любопытством начальным насытясь,
на разрыв апробировать связь.
Ты красива как прежде, красива
пуще прежнего. Слышишь, спасибо!
Не в претензии. Жизнь удалась…