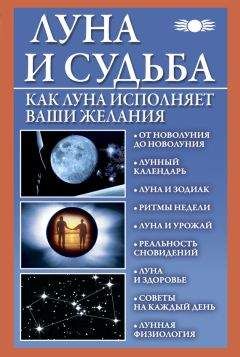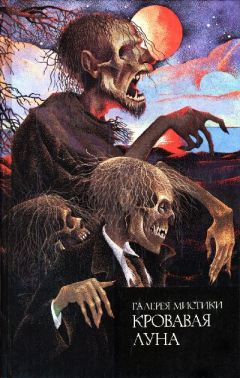Грэм Грин - Меня создала Англия
– Туман был очень густой. Я встречался с Лу перед завтраком. – Тебе надо выпить корицы с хиной, – забеспокоилась она. – После того плеврита у тебя очень слабая грудь.
– Перестань, – взмолился Энтони. – Ты все про меня знаешь, Кейт. Прямо как жена, честное слово.
– Ну, прости. Мы слишком затянули разлуку. Наверное, сейчас ты стал крепче. Я же ничего про тебя не знаю. Не знала, что ты хорошо стреляешь. – Она сдалась – глупо ударяться в амбицию, никакая сила не выстоит перед этой замкнутой упрямой слабостью. – Давай пообедаем завтра. Мне нужно многое, – нет, не спросить, нельзя пугать его этим словом, – услышать от тебя. Почтовые открытки в один вечер в Гетеборге – согласись, это мало. Прежде мы знали друг друга лучше. – Когда, скажем, я стояла в углу классной комнаты, думала она, и слышала его крик, и не в том даже дело, что в ту пору они знали друг друга лучше, а просто было чувство, что носишь в себе громадного ребенка, и он сопит, смеется, плачет в матке. И в те годы я бы согласилась на аборт; но сейчас… Не это ли чувствуют после удачной операции? Боли нет, ничто в тебе не шевелится, бояться нечего и надеяться не на что. Все тихо до отчаяния.
– Извини, Кейт. Боюсь, что завтра… В конце концов, – оборвал он себя, – я теперь никуда от тебя не денусь. Уступи меня пока Лу. – Ладно, – сдалась Кейт, – освободи для меня день-другой на будущей неделе.
– Я выпью корицы с хиной, – пообещал Энтони, ища примирения. Он вытащил из вазы цветок и сказал:
– Возьми. Очень пойдет к твоему платью. У тебя есть булавка?
– Я не ношу цветы на службе, – сказала Кейт, В дверях оглянулась – он вдевал цветок в петлицу пиджака.
Все ее желания исполнились, даже самые заветные: он рядом, хозяйничает на ее столе – «дом вдали от дома». Вышло солнце, вокруг фонтана высыхал туман, в стеклянном коридоре около лифта припекало. Она попыталась взбодрить себя неуклюжей шуткой: «дом вдали от дома», и сама же поплатилась: разве сможет она повторить его Лондон в стеклянных интерьерах Крога? Хорошо какой-нибудь курортной хозяйке: четки, камин, медная решетка – и готов Бирмингем. А она так не могла и, главное, не хотела; сейчас она как раз хотела оградить его от всего этого; он упрекнул:
– Тебе всегда нравился этот современный хлам, – и она отреклась, но не вполне искренне. В сердце томилось пыльное праведное прошлое, но рассудком она клялась в верности настоящему, этому обманному дню, душевной очерствелости; она темным тоннелем соединяла два пейзажа: по одну сторону – скученные домишки, на дворе сушат белье, валяются разбитые оконные рамы; по другую…
Она постучала в дверь и вошла. В обитой грубым сукном комнате на диване лежал Эрик.
– В чем дело, Кейт? – спросил он. – Присаживайся. В комнате не было ни телефона, ни картин, ни стела – только стул для секретаря.
– Я немного волнуюсь, – призналась она.
– Из-за чего?
– Из-за этих краткосрочных займов. – Она была благодарна ему, что он не поднял ее на смех, а выслушал с серьезным видом, словно кто-то сведущий подал реплику на совещании. Ее охватила жалость – так жалеешь человека, которого беззастенчиво «используешь». А она использовала его с самого начала, с той первой встречи в конторе Хэммонда; она сумела тогда понять, что ему нужно, и по мере сил старалась, имея перед собой одну-единственную цель: чтобы Энтони беседовал внизу с «ребятами», чтобы он дарил ей ее собственные цветы, чтобы ему было хорошо как дома. – Я понимаю, – сказал он, – сейчас тревожное время. Всем трудно.
– Но ничего опасного?
– Ничего, если мы не растеряемся. И не наговорим лишнего. – А как же эта помощь Хаммарстену? Это не растерянность? Разве ты можешь себе это позволить сейчас?
– Подумаешь, непозволительная роскошь – двадцать тысяч крои. Реклама в пять раз дороже. Сейчас именно нужно тратить деньги. Я заказал два автомобиля. Когда их пришлют, старые можно продать. Походи но магазинам, Кейт. Купи что-нибудь.
– Тоже для рекламы?
– Ты не представляешь, как пристально следят за каждым нашим шагом.
– Да что им нужно? Зубную щетку нельзя купить спокойно.
– Ты это знаешь лучше меня. Я плохо разбираюсь в людях.
Она понимала людей: их угнетает сознание непрочности своего положения. Не то чтобы они завидуют его деньгам или выражают недовольство его глобальными планами – нет: им нужны сенсации, чтобы на время отвлечься от собственных неурядиц, нужны убийство, война, финансовый крах и даже финансовый успех, если он более или менее молниеносен. Ей сделалось не по себе при мысли о том, какая страшная, тупая сила давит на сильных мира сего, вынуждая их рисковать положением в угоду сенсации: ультиматумы, телеграммы, лозунги – и откупаешься, бросая на ветер фантастические деньги. Противостоять этому давлению может лишь тот, кто абсолютно не представляет себе, чем живут люди, глухой к самому себе. А Энтони хочет пробудить в нем человека!
– Еще меня беспокоит эта продажа «Баттерсону». АКУ – выгодная компания. Почему мы от нее избавляемся? У нее надежное положение. – Ее поразила странная безучастность его взгляда; он чем-то возбужден, что-то скрывает. – Я знаю, что у нее прочное положение. Я видела цифры.
– Даже АКУ нужен капитал, – ответил Эрик.
– Но у нее есть капитал. Вложения надежны.
– Директора изыскали более рациональную форму вложений, – сказал Эрик.
– Ее капитал влился сейчас в нашу амстердамскую компанию.
– Понятно, – сказала Кейт.
– Ты соображаешь быстрее, чем Холл.
Она думала: долгожданная минута – мы преступаем закон, плывем в неизведанные края. Какое странное чувство безразличия. Вот что значит жить в постоянном ожидание тягостной разлуки, слез на пристани, скрывшегося парохода. Только одно и осталось спросить:
– Мы ничем не рискуем? – Почти ничем, – ответил Эрик. Она безгранично верила ему, и если «почти» – то ничего страшного. Перед любимым человеком, за которого отвечаешь, нет нужды храбриться и ломать комедию. Он добавил:
– Ты увидишь, что некоторые чеки и записи в наших книгах помечены задним числом.
– Понимаю, – ответила Кейт. – Что нужно сделать? – Ничего, уже все сделано. – Он встал. – Знаешь, Кейт, ты не ошиблась насчет фонтана. Он мне нравится. – Он взял ее за руку. – Ты живее соображаешь, чем Холл. Ему фонтан не понравился. – Она ощутила тревогу в его пальцах.
– Все-таки риск есть, – проговорила она.
– Все обойдется, когда наладится сбыт в Америке, – успокоил Эрик. – К концу недели все образуется. Мы почти в безопасности. С забастовкой улажено.
– Но что-то еще может случиться?
– Несколько дней мы должны быть очень осторожны. Ты видишь, – сказал он, – как я тебе доверяю. Мы столько лет вместе, Кейт. Ты согласишься выйти за меня замуж?
– Ах да, ведь жена не имеет права давать показания. В Швеции такой же порядок, как в Англии?
– Швеция меня не волнует. Я думаю именно об Англии.
– Спасибо, что не стал просить у меня руки и сердца.
– Мы деловые люди, – сказал Эрик.
– Тебе придется выделять мне содержание.
– Разумеется.
– И что-нибудь сделать для Энтони.
– Энтони мне нравится. Толковый парень. Он мне очень нравится, Кейт.
– Ты дашь ему содержание?
– Дам.
– Жаль, – вздохнула Кейт, – что наш брак нельзя пометить задним числом, как чеки. – Она улыбнулась. – Энтони будет приятно. Энтони воплощение порядочности. Энтони… – и запнулась; получалось так, словно она выходит замуж за Энтони, а не Эрика – Эрик напряженно тянулся перед ней, как шафер в ризнице. Энтони устроен, думала она, я исправила вред, который нанесла, отослав его обратно, прогнав из сарая – приспосабливаться, набираться уму-разуму, жить, как все живут. Он попытался вырваться, а я отослала его обратно. Теперь у него все впереди. Но к радости примешивалось сожаление; она не могла забыть мюзик-холла и как они ели яблоки, чтобы отбить запах. Казалось бы, уже бесповоротно веришь в мир без пограничных столбов, в мир, где на каждой бирже царствует Крог, и в то, что нужно без излишней щепетильности добиваться самого главного в жизни – устроенного положения, а горло-таки спирает ветхая честность и пыльная бедность Монингтон-Креснт, когда в раздумье тянешь:
– Энтони будет приятно. – Когда это состоится? – Подождем день-два, – ответил Эрик, – посмотрим, как повернутся дела. Если продажа АКУ сойдет благополучно, – заключил он, – можно будет и вообще повременить.
Кейт почти любила его в эту минуту. Он не боялся быть откровенным с нею даже сейчас, когда его книги аккуратнейшим образом подчищены. Ей приходилось слышать о том, какими огромными суммами он откупается от шантажа; сейчас впервые представился случай самой шантажировать его, если захочется. Но ей не хотелось: она его использовала, и только справедливо, чтобы он, в свою очередь, использовал ее. – Ты в любом случае мог довериться мне, – сказала она.
Он кивнул со всегдашней готовностью верить ей на слово; к отчетам он относился не в пример строже: за любым бухгалтером сам проверял каждую цифру. Она взяла его руку, поцеловала ее; как его жалко – один в этой суконной тихой комнате, где никому не позволено тревожить его. – Эрик, милый, – сказала она, – пойду обрадую Энтони, – и вышла из комнаты. В лифте ей почему-то вспомнилось, как однажды она видела на Северном мосту потерявший управление трамвай: сталь, стекло, лицо вагоновожатого, налегшего рукой на тормоз, вспыхивающие за стеклом электрические искры. Трамвай с грохотом пронесся в темноте, но было достаточно увидеть его мерцающий свет, чтобы понять: случилась беда. Он налетел подобием страсти – слепящий, стремительный, ненадежный.