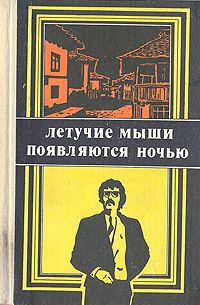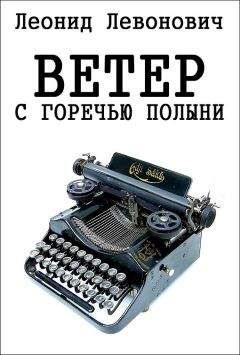Анатолий Байбородин - Не родит сокола сова
— Да-а, Петро Калистратыч, из тебя бы такой хозяин вышел, куды с добром. Я от, елки зелёны, не хозяин, хошь и тоже вроде на мужичью колодку лаженый. А тебе-то в ранешнее время о самую пору старостой быть, деревней править.
Отец невольно выпятил грудь, польщенный, заправил крылистые волосы и, острым соколиным взором, уставившись в отпотелое на ночь окошко, стал мечтать, как бы он по-хозяйски управлял деревней, как порол бы нещадно лодырей и недоделок. Иван же на его мечтанья непутево лыбился, а потом и вовсе, тихонечко заговорил с Ванюшкой, который так возле него и отирался. Отец умолк, протяжно глянул на своего бестолкового родича и жалостливо вздохнул:
— Да-а, Ваньтя, Ваньтя, дундук ты, дундук. На заимке, паря, живешь, мохом зарос, в бане сроду не моешься да пню горелому молишься. Скоро, поди, шерстью зарастешь и будешь напару со своим Михайлой в берлоге полёживать, лапу посасывать.
— Не пню я молюсь, а Христу Богу… православный же… А насчет шерсти, оно бы и ладно, ежли бы шкурой зарасти, — взбодрился Иван, набредя на забавную мыслишку. — Никакой бы, паря, заботы не знал, и душа б не болела, во что оболокчись. От бы жись-то пошла, елки зелены, не жись, малина. Сразу б гора с плеч, а то ведь одна печа, что одеть неча. А ишо охота побогаче расфуфыриться: дескать, вот и я, вот и я, вот и выходка моя. У нас же как, все кругом по одежке принимают. Вот мы и мантулим, как проклятые Богом, вот и горбатимся, пуп надрывам да грыжу наживам. А потом друг у друга рвем из рук, глотки готовы перегрызть за эти шмотки, навроде американцев, – отчего и войны… А ежли бы в шерсте-то ходили, елки-моталки…
Ванюшка, с восторгом хватая на лету всякое слово коки Вани, уже будто воочию видел, как его крестный на глазах затягивался шерстью и уже походил на резных осиновых лешачков, что привозил от тамошних щедрых русачков-ушканчиков.
— Верно, Еван, тебе на заимке и жить, шерстёй обросшим, — отец с нетаимой брезгливостью оглядел своего родственничка, низкорослого, кривоногого, в жеванном телятами, застиранном и зачиненном на локтях пиджачишке, надетом поверх старого свитера, в растоптанных сыромятных ичигах, смазанных перед дорогой пахучим дегтем. -– Леший ты и есть, хошь и Богу молишься, и баба у тебя подстать – брачёха с бараньего гурта.
Вдовый Иван на поспех и посмех всей деревни сошелся с молодой, но тоже овдовевшей буряткой, – отец обозвал ее на здешний лад брачёхой, – которая осталась с двумя малыми на руках и с Иваном наплодила двух светлоглазых метисочек; вот деревне уже ничего и не оставалось, как признать лесную семью. Дулма, новая жена коки Вани, не похожая лицом на здешних коренных степняков, восточных бурят – шароглазая, с бурым румянцем на плитчатых скулах, — оказалась иркутской, западной буряткой, – хударя , как иронично дразнили таких восточные, – и была не просто крещена в церкви православной, но и, как мужик ее Иван Житихин, по-детски, не пытая блудливым умом, верила во Иисуса Христа, а посему напару с мужиком молилась и даже изредка – не ближний свет до города с храмом, – бывала на исповеди и причастии. Эта женитьба сродника на буряточке с ребячьим довеском долго смешила отца, он и теперь не упустил случая потешиться:
— Отхватил ты, паря, красу — долгую косу. Дивно искал-то?.. Русские-то бабы от ворот поворот, дак ты на бурятку позарился. Или тебе как, расплюса да щербата, но зато богата?..
— Да и я-то не сказать, чтоб шибко бравый, – виновато развел руками кока Ваня и вдруг выкрикнул тараторку:
Насил милку по себе,
Выбрал я в чужом селе.
Взглянула милка на меня,
Испужалась, как огня!..
— Ну, бурятка и чо?! — за Дулму горячо вступилась мать, которая, сгоношив мужикам стол, посиживала в уголочке, слезливо, жалостливо поглядывала на брата. — Может, не из красы, да красу-то не лизать, а дурака не отесать. Да опять же и побраве иных наших — с Бохана же, из-под Иркутску, а там бурятки на карымов лицом находят…
— Ты ее приучил посуду мыть? — настырно вязался опьяневший отец. — А то ить они сроду посудешку не моют. Как-то раз приехал к им на гурт — мужик еще живой был. Сели чай пить, Дулма и говорит: вы, мол, русские, любите, чтоб чисто, да тут же плюнула в миску, подолом вытерла и мне поставила. Вот ловко.
— Кого выдумываш?! — мать осудительно покачала головой. — Тьфу, поганый твой язык! И как не отсохнет. Мелешь, кого попало!.. Да она почище многих наших баб… Да и, как ране говорили, с чистого не воскреснешь, с грязного не лопнешь, — еще здоровше будешь. А работать до чего удалая, наших баб за пояс заткнет. Поглядела я, дак все у ей в руках горит, не присядет, не приляжет. Такую бабу еще поискать надо.
Случай был, конечно, редкий: русские девки, случалось, выходили за бурят, а тут бурятка за русского пошла, — это еще было в диво. Сам кока Ваня, когда отец посмеивался над его женой, раскосой и скуластой, виновато улыбался, отмалчивался да разводил руками: дескать, какую уж Бог дал, — судьба, а судьбу и на добром коне не объедешь, но баба добрая попалась.
— Эх, Еван, Еван… — гнул свое отец, — по-нонешним временам тебе, паря, на заимке и жить, носа не казать. Наш-то Ванька, однако, поумне будет, — тогды-сегды радио слушат.
— Насчет Ванюхи это ты ве-ерно, Петр Калистратыч, — сроду не обижаясь или уже привыкший легко и надежно таить в себе обиду, Иван со всем соглашался и крепче прижимал к себе Ванюшку. — У тебя, Петр Калистратыч, все ребята башковиты, домовиты, работящи, а Ванюха, елки зелены, однако, голован будет. Летось ему пятый шел, а такое, бывало, загнёт, диву даешься: откуль чо берется?!
— Во, во, навроде тебя, ву-умный, как вутка, тока отруби не ест.
— Не, не, ты погоди, ты послухай сюда… Помнишь, летось сено косили на Уде?.. Вы еще корову пригоняли, а там бык-то у нас был будучий Митрия Шлыкова?
— Но?
— Как-то вы с сестреницей, с Ксюшей, увалили траву грести на релке, а мы с Ванюхой домовничать остались, за скотиной смотреть. Он же, елки зелены, у меня первый пастух был, можно сказать…
3
По майским зеленям крепкие степноозерские хозяева, такие как Гоша Хуцан и Хитрый Митрий, пригоняли к Ивану Житихину на кордон своих телок-нетелей, бычков-хашириков, чтобы, откормив их на сочных еланных травах, с октябрьским зазимком, ближе к Покрову Божией Матери, пригнать в деревню и сдать на бойню или забить себе на зиму. Случалось, и до белых мух, обвыкнувшись, паслась скотина на лесных еланях, нагуливая вес; под вечер гуртилась на скотном дворе, а Ивану оставалось лишь сосчитать головы, за которые отвечал перед хозяевами. Это выходило бы ладным подспорьем, – Иван получал в лесхозе жалкие гроши, коих едва хватало на харчи, – но, ох как тяжело деревенскому мужику вывернуть копейку из-за божницы или со дна окованного сундука, оклеенного, как оберегами, портретами Сталина, а посему иные норовили рассчитаться с Житихиным «через магазин»: потчевали винцом, рассыпались в похвалах и благодарностях, и когда лесник хмелел, отказывался от денег, иные бойкие мужички, вроде того же Хитрого Митрия или Гоши Хуцана, вместо положенных трех или четырех сотен, совали одну или две от силы да и отчаливали навеселе. Бывало, увозили от Ивана и гостинцы: соленых, вяленых ленков и хариусов. Добрые хозяева чуть не молились на бессребренника, и коль не хватало денег на расчет, отдаривались чем Бог даст, той же ребячьей одежкой, из которой свои чада вырастали; мужики же прижимистые гнали в деревню откормленную скотину и похохатывали над «дурковатым лесником». Но вскоре принимать расчеты взялась сама Дулма, а уж она в отличие от Ивана толмачила в деньгах.
В то лето отец с матерью, запрягши Гнедуху, пригнали на кордон нестельную Майку, и, прихватив ребятишек, косили сено для лесхоза, а попутно и для себя.
— Ушли вы грести, — вспоминал Иван, — и Дулма моя с вами, а мы, значит, напару с Ванюшкой и остались домовничать. А день, елки зелены, глухой, морошный, вот и гнилья навалилось тьма-тьмущая, – мошка , комары. Поедом едят, и скотина наша сдурела, так в речку и прет. Мы, значит, насобирали коровьих лепех, развели дымокуры, телки с бурунами возле дыма и сбились, тут же рядышком и пасутся. Ну, а мы, два пастушка, посиживам эдак ладком и баем мирком. Вот Ванюха и пытает меня: дескать, коровы промеж себя говорят или нет?.. «Да об чем им, поди, шибко баять-то?! — отвечаю. — Мычат да мычат…» «Не-е, — Ванюха-то мне толмачит, — у их такой поговор. Я, – дескать, – по-ихнему уже мало-мало смекаю…» Ишь чо выговариват… «Давечась, – мол, – наша Майка жалобно так мычала — меня звала, соскучилась. А потом, — бает, — как-то смотрю: уставилась на сёмкинского телка и опять жалобно так мычит, — это она своего поминат, что зимой пропал». Ишь чо выговариват… Младён, смирён да умён – три угодья в ём…
— Чем всякие байки плести, лучше вон закуси маленько.