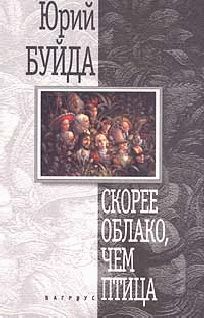Юрий Буйда - Все проплывающие
Черноусый сержант был прав: Ева Ева и впрямь оказалась магнитной женщиной. Мужчины влюблялись в нее с первого взгляда, дети бросались по первому ее зову, и даже женщины простили ей ее красоту с первого раза.
Дважды переходивший из рук в руки, разбитый и сожженный городок, населенный истосковавшимися по дому русскими солдатами и молчаливыми немцами, которые, шатаясь от голода, мыли тротуары с золой вместо мыла и меняли девственность своих дочерей на кусок солдатского хлеба, – этот исстрадавшийся, скукоженный, обгорелый городишко ожил с появлением Евы Евы. Вдруг пышно зацвели яблони и каштаны, вдруг вернулись птицы, пережидавшие войну в краях, где не выходят газеты, вдруг пришли в охоту застоявшиеся черные быки и их ост-фризские невесты… И даже костлявая Марта, чьи сыновья погибли в Африке и на Волге, брала метлу на караул, пропуская машины с хохочущими солдатами через железнодорожный переезд…
Кто только не пытался ухаживать за Евой Евой! Генералы и солдаты, офицеры и интенданты всех родов войск, расположенных в городке. Одно ее имя нередко служило поводом для ссоры и зубодробительного разбирательства. Двое молодых летчиков, поспорив из-за златоглазой женщины, подняли в воздух свои истребители, чтобы решить спор лобовым тараном. А она лишь посмеивалась и принимала в подарок только цветы, хотя перед нею были открыты все репарационные склады Восточной Пруссии.
Каково же было наше изумление и возмущение, когда мы узнали, что Ева Ева стала жить с немым Гансом. Господи, с Гансом! С этим недотепистым длинноруким парнем, над которым посмеивались даже немцы. В детдоме он исполнял обязанности сторожа, истопника, садовника и скотника. Он был дисциплинирован и кроток: даже если его бранили, он лишь согласно кивал, пытаясь растянуть губы в улыбке. Это, впрочем, ему не удавалось: осколок фугасного снаряда пробил ему обе щеки, вышибив половину зубов и напрочь вырвав язык. И вот однажды его увидели выходящим утром из ее комнаты. Как и когда они сблизились, как и когда они поняли, что должны быть вместе, и как при этом обошлись без слов – ведомо одному богу, который пасет немых и красавиц. На вопрос же начальника детдома майора Репринцева она ответила с обезоруживающей улыбкой: «Люблю. Жалею». И все. Женщина, при взгляде на которую тотчас свихивались все существа мужского пола от генералов до воробьев.
Смехом парализовала она и нашу слабую попытку подвергнуть ее остракизму, а самым настойчивым продемонстрировала никелированный браунинг с дарственной надписью на рукоятке – от маршала Жукова.
Ночами же мужчины на окрестных улицах до утра ворочались в своих постелях и беспрестанно жевали бумажные мундштуки папирос, прислушиваясь к ее счастливым стонам и вызывающе бессмысленному мычанию ее возлюбленного. Посмотреть на него приходили даже из авиаполка, расположенного в семи километрах от городка. Трогать его, впрочем, остерегались – отчасти из нежелания ссориться с Евой, отчасти, скажем честно, из уважения к его физической силе: Ганс двумя пальцами отворачивал ржавые гайки на ступице автомобильного колеса. Когда же комендант полковник Милованов под благовидным предлогом запер его в кутузке, Ева Ева просто пришла, просто взяла со стола в комендатуре ключи и просто освободила немого, в то время как все, кто там был, включая часовых и полковника Милованова, лишь молча проводили ее восхищенными взглядами. Ганс на руках отнес ее домой. «Их либе дих, – не стесняясь окружающих, говорила она ему. – Я хочу ребенка. Я хочу забрюхатеть. – И, проглатывая первый звук его имени, звала его таким голосом, что в ее сторону поворачивались даже фаллические хоботы танковых орудий: – Аннес… Аннес…»
Шло время, а Ева не беременела.
С разрешения майора Репринцева она усыновила однорукого десятилетнего мальчика, прозванного детьми Сусиком (Иисусиком). Это был молчаливый парнишка, единственным развлечением которого была стрельба из рогатки по немецким жителям, боявшимся его как огня: бил он стальными шариками от подшипников, подаренных танкистами детскому дому на игрушки. К новому своему положению он отнесся совершенно равнодушно. Он не позволял Еве одевать или раздевать себя, ходил в баню с солдатами, с ними и столовался, домой приходил лишь переночевать. Ева Ева покорно сносила его оскорбления («Немецкая шлюха! Гитлеровская подстилка!» – ледяным тоном выцеживал он из своего косо прорезанного рта), покорно дожидалась его возвращений, чтобы, убедившись, что он заснул, поцеловать его в закрытые глаза.
Детдомовские его недолюбливали и в играх спуску не давали. Когда затевали игру в войну, ему чаще всего выпадала роль пленного на допросе. Его били сложенным вдвое телефонным проводом, прижигали живот папиросой и загоняли под ногти иголки. Стиснув зубы, Сусик молчал, доводя «врагов» до остервенения. «Добром это не кончится», – предупреждал Еву начальник детдома.
И он оказался прав. Играя в войну, ребята повесили Сусика на сосне и устроили состязание в меткости: кто попадет ему камнем в сведенные судорогой губы. А когда попали, изо рта вдруг вывалился непомерно длинный фиолетовый язык.
Ганс принес на руках в больницу потерявшую сознание Еву. Доктор Шеберстов расстегнул на ней халат и присвистнул, увидев чудовищный шрам, тянувшийся извилистой гроздью от левой груди к золотистому лобку.
– Откуда это? – спросил он, когда Ева Ева пришла в себя и он тщательно ее обследовал.
– Из-под Варшавы. Я была санинструктором в пехоте.
Доктор Шеберстов сглотнул.
– Евдокия Евгеньевна, я должен вам сказать, что у вас… что вы, скорее всего, никогда не сможете родить…
Она долго молчала, лежа на кушетке с закрытыми глазами. Потом села, подняла глаза на врача, прятавшего руки за спиной.
– Тогда зачем мне все это? – тихо спросила она, коснувшись рукой своей груди. – И это… и это… Зачем? Выходит, гожусь только в бляди?
– Война. – Доктор отвел взгляд.
– За что, господи? – Она порывисто запахнула халат. – Меня-то – за что?
– Война не вина, – пробормотал Шеберстов. – Не вина.
Несколько дней она не выходила из своей комнаты. Лежала ничком на кровати, то засыпая, то просыпаясь и тупо вслушиваясь в шум крови.
В дверь постучали. Она не ответила.
– Ева, – позвала кастелянша Настенька, – Евушка, да не убивайся ты так. Пойдем, небось на станции они еще.
Евдокия с трудом оторвала голову от подушки.
– Кто?
– Кто-кто? Немцы, конечно.
– Какие немцы? – не доходило до нее.
Настенька склонилась над нею.
– Да ты чего, девонька? Или заболела?
– Нет. – Она села на кровати. – Что случилось?
– Высылают их всех. Немцев да немчих с немчатами. По пуду барахлишка на душу – и ауфвидерзей. Моя хозяйка ручку медную от двери отвернула – на память.
– Почему высылают? – Ева уже стояла, быстро застегиваясь и поправляя прическу. – Ничего не понимаю. – Глянула в окно: двое солдат с автоматами гнали куда-то посередине булыжной мостовой старуху Марту. – За что их? Куда?
– В Германию. Приказ такой из Москвы. Да не скачи ты, я своего попрошу – на машине вмиг добросит.
Черноусый сержант помог женщинам выбраться из машины, крикнул часовому:
– Они со мной!
Их пропустили.
Далеко впереди тяжело, натужно и редко пыхал паровоз. Солдаты с грохотом закрывали двери товарных вагонов, не обращая внимания на мертво стоявших в проемах немцев, офицеры навешивали пломбы.
– Ганс! – крикнула Ева в ближайший вагон. – Аннес, родной мой!
Молодой офицер в форме МГБ отвернулся и, ломая спичку за спичкой, закурил.
Она бросилась вдоль косо освещенного прожекторами поезда. За нею побежала сдобная Настенька.
– Аннес! Ты где? Где ты? Не пущу! – кричала Ева, на бегу отбиваясь от Настеньки. – Не пущу-у-у!
Набежавшие из темноты солдаты повалили ее на перрон, прижали к брусчатке.
Поезд залязгал и тронулся.
– Аннес!
Ева вырвалась и, спотыкаясь, бросилась в зал ожидания.
– Телеграмму! – страшно закричала она в окошечко юной телеграфисточке. – Телеграмму Сталину! Молнию!
Подошедший сзади давешний гэбист осторожно взял ее за локоть. Она, не глядя, резко оттолкнула его.
– Телеграмму!..
Телеграфисточка отвернулась.
– Пожалуйста, – громко прошептал гэбист, хотя, кроме них, в зале никого не было. – Уйдемте. Это приказ. Понимаете? Приказ.
Несколько мгновений она смотрела на него, словно слепая. Он взял ее за руку и повел. В дверях ее подхватила запыхавшаяся Настенька.
– Пойдем, миленькая… спасибочки, товарищ кавалер… Пойдем…
В машине черноусый сержант долго раскуривал папиросу, потом вдруг сказал, глядя в темноту:
– Полковник Милованов застрелился. – Пыхнул дымом. – Из-за Эльзы своей. Депортация, бабоньки.
И выжал сцепление.