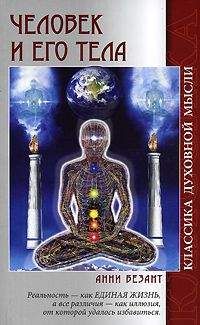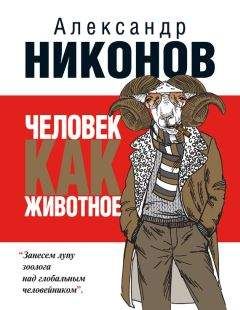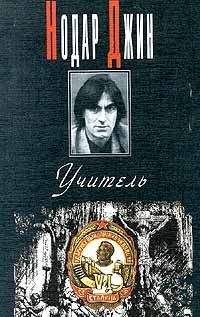Иэн Макьюэн - Первая любовь, последнее помазание
Все вышло не совсем так, как ему представлялось (жизнь никогда в полной мере не соответствует ожиданиям), и в день маскарада выяснилось, что купить красные лампочки она забыла (а теперь поздно — магазины закрыты), и рецепт пунша затерялся где-то в конверте (нет времени искать), поэтому Мина купила ящик спиртного, в основном вина (вино, как она сказала, все любят), а для тех, кто не любит, — две здоровые бутыли сидра. Роль магнитофона исполнял допотопный проигрыватель, одолженный у сына миссис Симпсон (Генри никогда раньше таких не видел), вместо кассет — допотопные пластинки, одолженные у самой миссис Симпсон. Предвкушая долгожданный маскарад, он не раздавал волю воображению: дом становился больше, комнаты выглядели залами с такими высоченными потолками, что гости казались карликами, музыка грохотала со всех сторон, и костюмы у всех были весьма экзотические: иностранные принцы, вурдалаки, капитаны дальнего плавания, и среди них Генри в маске. Теперь они с минуты на минуту ждут гостей, а комнаты такие же, как всегда (да и с чего бы им стать другими?), музыка, заунывно потрескивая, доносится из проигрывателя, а вот и первые гости. Генри распахивает перед ними дверь с выражением испуга на тридцатишиллинговом лице, гости в обличье обычных людей — может, они забыли нарядиться? или невнимательно прочли приглашение? Он молча придерживает дверь, а они идут мимо, кивая, не обращая внимания на его маску (как если бы их встречал самый обычный мальчик), — идут по двое и по четверо, сдержанно смеясь и беседуя, наливают себе напитки (смеясь и беседуя все менее сдержанно) — мужчины в серых костюмах и черных костюмах (руки в карманах брюк, раскачиваются, как маятники, перед собеседниками) и женщины (с высокими седыми прическами, с бокалами в тонких ппьцах) — все на одно лицо. Мина осталась наверху, хотела спуститься неузнанной, смешаться с гостями в своем новом обличье; он огляделся — может, она уже здесь? — но никто из женщин (равно как и мужчин) не был на нее похож. Он стал ходить между группами беседующих, что-то во всех них было не так, у одного — бедра, у других — плечи, приземистый господин, мимо которого проходил Генри (лысый и надушенный, воротник рубашки слишком широк для тонкой шеи, узел галстука размером с кулак), наклонился к нему и сказал: «Ты, должно быть, Генри, — голос тонкий, но с хрипотцой, — у тебя на лице написано». Он выпрямился и затрясся от смеха, оглядываясь по сторонам в надежде, что его соседи оценят удачную шутку; Генри пережидал — так же, как в магазине, где над ним подтрунивал продавец. Лысый приземистый господин снова повернулся к нему и сказал примирительно, понизив голос: «Тебя, конечно же, рост выдает, мой милый. А меня ты узнал?» Генри отрицательно потряс головой, наблюдая за странными действиями господина, который положил ладонь на макушку и, подцепив большим и указательным пальцами кожу, обнажил не мозг и не голый череп, а волосы, черные волнистые кудри (которые, впрочем, тут же опять прикрыл): «Теперь догадался? Нет?» Господин был обрадован, несомненно обрадован, он наклонился ниже, прошептал Генри на ухо: «Это же тетя Люси» — и поспешно отошел. Люси была одной из тех дам, которые независимо от родства просят называть себя тетями, подруга Мины, заходившая по утрам на кофе; она упрямо уговаривала Генри присоединиться к ее небольшой театральной труппе, хотя он всегда отказывался; Мина (очевидно, ревнуя) категорически возражала, да он и сам не хотел. Но Мина… Кто из этих толстозадых мужчин, кто из этих крепко сложенных женщин она? Или Мина ждет, пока они опьянеют? Он выпил вино через маску, сразу же вспомнив про то, как его вырвало в прошлый раз, и про платье, замоченное в ведре, где оно теперь? Проглотил одним махом, стараясь не почувствовать вкуса, не облизав губ, продолжая искать Мину и ждать Линду, которая вот-вот должна появиться как есть (он сказал, что ей незачем менять обличье: ее никто не знает, а значит, не от кого прятаться). Но был ли этот маскарад, где все они стояли, говорили, шутили, переходили от одной группы к другой, не обращая внимания на проигрыватель, фонивший за гомоном голосов (никто не замечал, что надо сменить пластинку), — был ли этот маскарад таким же, как все маскарады на свете? Он сам поменял пластинку, потянулся за конвертом — ветхим квадратом некогда плотного картона, — как вдруг чья-то рука схватила его запястье, старческая рука, и, подняв глаза, Генри увидел старика, глубокого старца, скрюченого, искалеченного горбом, выпиравшим из-под пиджака, с жиденькой бороденкой на скулах и лоснившейся от жира безволосой полоской над верхней губой, — и вот этот старик схватил его запястье, пожал и отпустил со словами: «Не стоит, все равно никто не слушает». Генри разглядывал старика сквозь поднятый бокал вина: «Это у вас тоже обличье? Тут все, что ли, в обличье?» Старик показал большим пальцем через плечо на горб, ничуть не обидевшись: «Кому нужно такое обличье?» — «Может, он тоже часть образа, специально подложен или там…» Он замолк, недоговорив, потому что старик повернулся к нему спиной и предложил: «А ты потрогай, потрогай и скажи, подложен или не подложен». Такие вещи исполнимы, только если делать их быстро, заглатывать залпом, как вино. Генри потянулся, дотронулся до спины старика и тут же отдернул руку, но потом, когда старик сказал, что так не проверяют, дотронулся снова и на этот раз потыкал горб пальцем (вообразите: Генри с улыбкой ужаса на холщовом лице, с торчащими во все стороны волосами, с нарисованными губами, смоченными вином, маленький ухмыляющийся монстр, щупающий горб старика, оказавшийся одновременно и твердым и податливым); наконец старик обернулся, удовлетворенный: «Горб есть горб», — и переместился в другой угол комнаты, отдельно от всех, поглядывая с ухмылкой на окружающих и потягивая вино из бокала. Генри наполнил свой бокал и тоже стал потягивать из него, бродя между группами; казалось, все вокруг говорили, голоса нарастали и стихали, накатывали волнами, как стенания органа, от этого закружилась голова и пришлось облокотиться на стол, переждать, где же Мина, где же Линда? Нигде нет, кругом одни незнакомцы, выдающие себя не за тех, кто они на самом деле, болтуны и выпивохи, полагающие, что изменили свою внешность до неузнаваемости, так легче трепать языком, но вести-то себя все равно надо прилично, сколько ни наряжайся, человек — это человек, не ты, так другой, и кому-то придется отвечать, отвечать, за что отвечать? Генри изо всех сил сжал край стола, за который держался уже обеими руками: за что отвечать? О чем он только что думал? Еще вина, еще, необъяснимое беспокойство заставляло подносить бокал к губам каждые десять секунд — потому что его не замечали; потому что вечеринка для взрослых, и он на ней — никто, мальчишка, державший им дверь при входе; потому что все было не так захватывающе, как ему представлялось, — в итоге Генри выпил четыре полных бокала. В дальнем углу комнаты от одной из групп отделился мужчина, попятился с бокалом в руке и рухнул в кресло, оказавшееся у него за спиной. Захохотал, глядя снизу вверх на своих бывших собеседников, которые тоже захохотали, склонясь над ним. Слова в голове у Генри раскачивались, как огромные цифры на рекламном щите, медленно вспыхивали, если он выпустит стол, то сразу же упадет. Интересно: упадет монстр, а отвечать Генри? Снова забрезжила потерянная ранее мысль: когда ты в чужом обличье и притворяешься не собой, кто отвечает за поступки, которые ты сам, без костюма, никогда бы не совершил… никогда не позволил бы себе совершить? огромные цифры медленно вспыхивали в голове, что-то во всем этом есть: когда Мина переоблачается к ужину и начинает к нему приставать, кем она себя мнит? Платье в ведре, как редкое морское животное; они стоят посреди пустой игровой площадки и выдумывают, что можно сделать в чужом обличье, и Клэр направляется к ним, одновременно молодая и старая; офицер, вытирающий ему ногу полотенцем; мужчина в постели; чернота за головой Рембрандта; Линда перед картиной, говорящая, что предпочитает… Линда перед картиной, Линда в другом конце комнаты спиной к нему, с водопадом золотистых волос, как у Алисы в Стране чудес, слишком много разных голосов вокруг, если позвать — она не услышит, а выпустить из рук стол никак нельзя. И она беседует с мужчиной, упавшим в кресло, мужчина в кресле, мужчина в кресле, какие огромные цифры, мужчина в кресле усаживает Линду на колени, Линду и Генри, стоя перед зеркалом у себя в спальне, он ощутил себя свободным, даже начал слегка приплясывать, как Генри и Линда, усаживает Линду на колени, обнимает, придерживая голову ладонью, от страха она не может пошевелиться, даже язык прилип к нёбу, да и кто услышит ее в гуле всех этих голосов? расстегивает свободной рукой рубашку — мужчина в кресле, голоса нарастают, нестройный хор, никто ничего не видит, мужчина в кресле прижимает ее лицо к груди, не выпускает, Генри думает: кто будет отвечать? он попробовал отпустить край стола, но осторожно и очень медленно, чтобы вино не взметнулось вверх из желудка, и начал продираться к ним сквозь гущу набившихся в комнату людей.