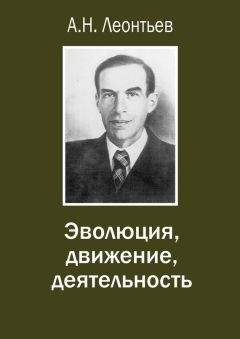Алексей Поляринов - Пейзаж с падением Икара
– Что ж, наверно, мне даже и забирать отсюда нечего – кроме лекций, пожалуй.
– Почему это «нечего»? А как же макеты?
– Какие макеты?
Сергей Ильич посмотрел вверх, я проследил его взгляд и увидел, что к потолку приклеен десяток деревянных, игрушечных кораблей всех мастей. Они концентрически располагались вокруг голой лампочки. От этого зрелища меня бросило в пот.
– Гос-споди…
– Да-да! Неожиданно, – сказал профессор, смеясь. – Смотрите, – он тростью ткнул в выключатель, лампочка зажглась, и каждый кораблик отбросил рельефную тень на белую поверхность потолка. – Не знаю, где он их достал – но он очень гордился ими. Когда я спросил, зачем лепить их к потолку, он ответил, что «так меньше вероятность наступить на них в тесноте».
Минуту я смотрел вверх, стараясь не показывать, как сильно меня взволновал этот образ.
– Да уж. Закон всемирного тяготения…
***
Вся жизнь моего отца уместилась в три небольшие коробки. Помню, вернувшись домой, я затолкал их в кладовую – и до лета не прикасался к ним.
И вот – спустя полгода, пережив свою первую выставку и покончив с генеалогическим древом Дмитрия Ликеева, я почувствовал, что час настал. Сама идея преемственности поколений (в основном – ее условность) за время «расследования» так глубоко въелась в мое мышление, что я всерьез решил покопаться в собственном прошлом – вот так коробки с барахлом отца были переправлены из кладовки на стол и распакованы.
Первое, на что я наткнулся – плакат фильма «Человек-слон» Дэвида Линча. Дальше – табличка с любимым афоризмом отца:
«Что лучше – дешевое ли счастие или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше?» Достоевский «Записки из подполья».
Ему всегда нравились помпезные, надрывные афоризмы Гюго и Достоевского. Я же испытывал к ним брезгливое отвращение.
Хотите мое мнение? Человек, выбравший «возвышенные страдания» – не герой, а мазохист.
И потом, что значит "дешевое счастье"? Это, знаете ли, оксюморон. Очевидно, что если счастье дешевое – значит, это не счастье; если дешевой назвали любовь – то какая же это любовь? Дешевыми могут быть только подделки, оригиналы всегда дороги. Всегда. И если кто-то не способен увидеть разницу – это целиком проблема смотрящего.
Знаешь, пап, что меня особенно нервирует? Расплывчатость формулировок. «Возвышенные страдания», говоришь? Вероятно, под «возвышенностью» здесь стоит понимать благородные мотивы. Например, сесть в тюрьму, сражаясь с тираном. Взять на себя вину, чтобы избавить от страданий близкого человека. Стерпеть пытки, не выдав друзей. Или пойти на Голгофу. Но тут мы сталкиваемся с другой, чисто философской проблемой – что является критерием «возвышенности»: мотив или результат поступка?
Что благородней: борьба за свободу своей страны с оружием в руках или непротивление злу насилием? Я думаю, все, опять же, зависит только от ракурса, от точки зрения смотрящего (и в этом – вся проблема; ведь большинство людей – моральные дальтоники).
Считать свои страдания «возвышенными» станет лишь тщеславный идиот. Страдания не могут быть возвышенными – как не может быть возвышенной травма; даже если ты получил ее, защищая близкого человека. Возвышенность – это критерий поступков, а никак не страданий.
Страдать за правду – благородно, но стремиться к страданию за правду – это извращение.
Возвышают не страдания – а их преодоление. И только.
Если к чему-то и стоит стремиться – то к уменьшению страданий, а не к их возвеличиванию.
Ладно, хватит квази-философии, к чертям Достоевского, я отвлекся.
Что там дальше в ящике отца?
Ах да, ну конечно, – стопка карт (заповедника, побережья, акватории и проч.). Куда ж без них? И каждая исчерчена сеткой маршрутов. Надеясь разобраться в этих безумных, невротических хитросплетениях, я наклеил карты на стену, отчего комната сразу стала похожа на рубку полевого командира.
Следующий шаг – макеты кораблей. Раздобыв стремянку, я приклеил корабли к потолку. Не знаю зачем. Просто, мне кажется, там им самое место.
Разгребая корреспонденцию отца, я обнаружил газету трехлетней давности. Возможно, я бы просто выбросил ее, если бы не одна мелочь – номер был посвящен живописи, а на седьмой полосе – репортаж о молодых, подающих надежды искусствоведах, среди которых – я. Вот так новость – он следил за моей карьерой…
Дальше – больше. Вторая коробка полностью забита чертежами. Десятки ватманов, расчерченных настолько кропотливо, что стало как-то не по себе. На чертежах – схемы установки мачт, рулевого управления и прочей корабельной демагогии.
Разглядывая чертежи, я испытал приступ тоски – насколько же сильной может быть страсть? Я всегда ревновал отца к этой шхуне. И, похоже, не напрасно.
Самое интересное таилось на дне третьей коробки: неоплаченные счета, кредитные документы, накладные и прочая бухгалтерская схоластика. Обычно при слове «наследство» люди представляют себе кучу денег, в моем случае «наследством» оказалась порядочная стопка долговых расписок. Спасибо, папа! Перебирая накладные я обнаружил такую вот запись:
Пиломатериалы (брус. 200х200х6000мм) (цена за куб.метр 7250) (общая сумма транзакции 720762.60).
Сумма была настолько абсурдна, что я несколько раз пересчитал цифры, подозревая оптический обман.
Пиломатериалы? Какого дьявола?
Следующий счет выглядел еще более экзотично: «сплав (медь, цинк)»
И здесь – общая сумма, стоявшая внизу листа, выглядела просто неприлично.
Если ватманы с чертежами мачт и рулевого управления я еще мог привязать к тому, что отец преподавал в университете, то ЭТО – уже за гранью логики.
К счастью адреса фирм-поставщиков были указаны в каждом документе.
Я позвонил дяде Ване и рассказал о своей находке. Молча выслушав меня, он ответил лишь: «через час буду», – и через пятьдесят восемь минут уже стучал в мою дверь.
***
Первым делом мы наведались в фирму, поставляющую пиломатериалы. Сначала нас даже пускать на порог не хотели, но наглость дяди оказалась прочнее хамства охранников.
Секретарша в приемной была похожа на манекен с витрины. Пока мы ждали, она, кажется, ни разу не моргнула. И голова ее вертелась отдельно от туловища, словно на шарнире. Предупредив босса о нашем приходе, она сказала:
– Pouvez entrer, monsieur? – почему-то она решила, что мы французы (или, может, это она – француженка?).
Мы не стали ее переубеждать и, помешкав у двери, вошли в кабинет. Внутри пахло пылью, я чихнул. Свет придорожного фонаря пробивался сквозь створки жалюзи и ровными желтыми полосами наискосок ложился на паркетный пол.
В углу за столом сидел старик и листал пожелтевшую газету. На стене за его спиной на специальных штативах располагались клинки, сотни клинков – от охотничьих ножей до самурайских мечей.
– Добрый вечер, – сказал я.
Старик поднял на нас взгляд. Сквозь толстые линзы очков глаза его казались огромными, какими-то рыбьими, смотрящими в упор.
– Вы кто такие?
– Мы… мы пришли проконсультироваться.
– По поводу?
– У нас есть накладная…
– Две.
– Что?
– Я сказал: две.
Мы с дядей переглянулись.
– Прошу прощения, – сказал я. – Я не совсем понимаю: чего «две»?
– У вас две минуты. Время пошло, – он перевернул песочные часы и постучал по ним карандашом. – Говорите – чего надо, и выметайтесь.
Я достал из кармана сложенный вчетверо листок и протянул ему. Он включил настольную лампу (такую яркую, что я прикрыл глаза ладонью) и пробежался глазами по цифрам (зрачки его комически забегали влево-вправо-влево-вправо). Потом посмотрел на нас:
– Вы кто такие вообще? Откуда это у вас? Это конфиденциальный документ.
– Он принадлежал моему отцу. Я хотел узнать о нем поподробнее.
– Ах ты собака! – ни с того ни с сего заорал старик. – Он еще смеет огрызаться! Да я тебя железным прутом выпорю, ржавым гвоздем искорябаю, глаза тебе выцарапаю!
– Простите, это вы мне? Но…
– Молчать, собака! – гаркнул старик, лицо его как-то неестественно задергалось. Он явно был не в себе: – Больше я тебя не побью по той простой причине, что ты уже битый. Держи ключ!
– Какой ключ? О чем вы? С вами все в порядке?
– Держи ключ, собака, а то я тебе голову им размозжу.
– Уходим. Он псих, – прошептал дядя Ваня. Обычно люди, хамившие ему, сразу получали апперкот, но бешеный старик, похоже, умудрился напугать и его.
Я схватил накладную и, процедив «спасибо», стал отступать к выходу. Дядя – за мной. Когда мы дошли до двери, за спиной вдруг раздался хохот, – сначала сдавленный, но нарастающий. Мы даже замерли на мгновение, потому что смех был не злой, а очень добродушный.
– Постойте, друзья! Ха-ха! Стойте!