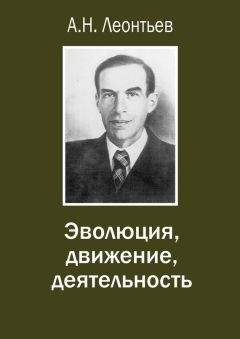Алексей Поляринов - Пейзаж с падением Икара
– Н-не совсем.
– Красота очень редко передается по наследству, но вот уродство… Дети оперной певицы, к сожалению, унаследуют не голос матери, а скорее, ее склонность к ожирению. Точно так же и с Ликеевым: его наследством был не уникальный дар художника, а редчайший вид дальтонизма. И, получается, что вы действительно его наследник.
***
Старик был так взволнован, что мне пришлось схватить его за плечи и несколько раз повторить свои доводы. Эта идея – об общих генетических дефектах, связывающих поколения, в тот момент так захватила меня, что я готов был закричать «Эврика!». Лишь позже, вернувшись домой, остыв, я осознал, что рано открывать шампанское…
… ведь, строго говоря, схожий генетический дефект (пусть и очень редкий) сам по себе ничего не доказывает – он сильно сужает круг поиска, это правда, но – погрешность остается.
***
Мы встретились на следующий день – в парке. Я был немало удивлен, увидев, как сильно изменился старик – всего за одну ночь – походка, речь, улыбка. Его было просто не узнать – он был… счастлив. Он обнял меня, назвал своим «добрым другом» и сообщил о результатах диагностики – врач подтвердил тританопию.
Его лицо излучало покой. Он был похож на сентиментального диккенсовского героя, отыскавшего, наконец, свою семью и уже достигшего последних страниц романа.
***
Я рассказал Марине историю своей сделки с Лжедмитрием.
– Постой, – перебила она, – но если ты сам не уверен в том, что дальтонизм – это железное доказательство родства, почему ты не сказал ему о своих сомнениях?
– Ты не понимаешь: он выглядел так… умиротворенно.
– Умиротворенно?
– Да. Он хотел избавиться от своего сиротского прошлого, хотел «обрести корни» – и он обрел их, разве нет?
– И ты не чувствуешь вины?
– Вины? С чего вдруг? Я обнаружил его цветовую слепоту – и этим приблизил к Ликееву – он должен быть мне благодарен.
Марина пожала плечами.
– Постой, ты сам только что сказал, что слепота ничего не доказывает.
– Нет, я сказал, что она не является стопроцентным доказательством. Это разные вещи. В жизни вообще не бывает ничего стопроцентного.
– Спасибо, кэп.
– Да подожди ты! Я серьезно: любые «корни» – это условность. Важно лишь то, что мы чувствуем. И не надо так на меня смотреть! Я не обманывал старика – я всего лишь «сыграл Луку» – я подарил ему желаемую версию реальности. И эта версия в каком-то смысле освободила его, понимаешь? Он мог подвергнуть ее сомнению – он должен был подвергнуть ее сомнению – но он не сделал этого – он предпочел поверить в нее.
Марина минуту, щурясь, смотрела мне в глаза.
– А тебе не кажется, что ты проделал то же самое с самим собой?
– В смысле?
– Подарил самому себе желаемую версию реальности.
Я засмеялся.
– В этом я даже не сомневаюсь.
Глава 7. Отец.
Я помню, как через неделю после смерти отца мне позвонил Сергей Ильич Бахтин, заведующий кафедрой истории в Политехническом университете.
– Тут вот какое дело, – сказал он смущенно, – кабинет Андрея Ивановича теперь передали другому преподавателю и собираются… освободить. Я запретил выбрасывать вещи. Может быть, вы приедете и заберете их. А то – как-то некрасиво получается.
***
Когда я зашел на кафедру, меня встретила секретарша. Вечно-удивленное выражение лица делало ее похожей на испуганную сову (отличный экспонат для моей коллекции лиц).
– У Сергея Ильича лекция!! – крикнула она. Она всегда кричала – почему-то ей казалось, что я глухой.
– Я подожду, – прошептал я.
Профессор появился через полчаса, и я с удивлением заметил, как сильно он постарел за те восемь лет, что мы не виделись. Я помнил его суровый, как наждак, характер – теперь же его голос словно вылинял от времени. Ходил он согнувшись, опираясь на тонкую граненую трость, похожую на длинный карандаш. Раньше он любил поучать меня; бывало, схватит под локоть прямо в коридоре, – да так, что и не вырвешься, – и начнет многоэтажный монолог:«Вот вы, молодые, вбили себе в бошки: «все течет, все меняется, культура уже иная». А я не согласен! Я верю Пармениду, а не Гераклиту. Считаю, что культура незыблема. Она одна – культура чистоты…»
Я ожидал, что и сейчас, увидев меня, он начнет чеканить афоризмы, – но он лишь кивнул:
– Идемте, Андрей Андреич, я открою вам кабинет. Галина Львовна, принесите нам коробки, чтобы можно было собрать вещи. И не думайте, что я не заметил ваши кроссворды. Займитесь делом, ей-богу.
***
Кабинет отца был настолько мал и тесен, что мы едва могли развернуться. Чтобы сесть за стол, мне пришлось проявить чудеса акробатики и гибкости. Первое, что бросилось в глаза – поверхность стола была исцарапана, но не хаотично, а вполне осознанно. Я пригляделся и увидел множество вертикальных палочек, перечеркнутых диагоналями.
– Что это? – спросил я.
Сергей Ильич склонился над столом.
– А-а-а, это количество дней, проведенных, так сказать, в трезвом уме. Одним из условий приема Андрея Ивановича на должность преподавателя был полный отказ от алкоголя. Члены комиссии знали о его сложных отношениях с бутылкой, поэтому специально внесли такой пункт в договор. Конечно, это было унизительно, но он согласился – потому что очень хотел найти себе применение. И каждый вечер, покидая кабинет, он брал циркуль и с гордостью царапал очередную палку. Он даже дал этому столу имя – точнее, два имени: «сухой закон» и «столп трезвости».
Я улыбнулся.
– «Столп трезвости»?
– Да. Впрочем, не буду врать – хэппи-эндом тут и не пахло. От зависимости он так и не избавился.
– М-м?
– Он срывался. Да. Несколько раз. Звонил мне и говорил, что уже уговорил полбутылки, и это еще не предел. Я просто отправлял его в отпуск задним числом. Как вы знаете, у него был удивительный талант – выходил из запоя он так же быстро, как и уходил в него. На занятия он всегда являлся гладко выбритый и одетый с иголочки, – он любил эту работу.
Я несколько раз провел ладонью по изрезанной поверхности, стараясь не смотреть на Сергея Ильича – мне было стыдно оттого, что он знает о моем отце больше, чем я. Я хотел сказать ему «спасибо», но осекся.
На краю стола стоял механический календарь (застрявший почему-то на 1-ом января), древняя печатная машинка «Ундервуд» и настольная лампа, которая, выгнув пружинистую шею, смотрела в стену. В верхнем ящике лежали тетради студентов, в нижнем – пустота.
Я раздвинул створки жалюзи и выглянул в окно – взгляд мой упал на старый деревянный пирс, похожий на недостроенный мост. Потом я увидел рисунок на бетонном заборе: три поросенка, и над каждым написано: «Ниф-ниф, Наф-наф, Зав-каф», – и чуть ниже: «Поставь зачет, свинья!».
На стеллаже аккуратными рядами стояли книги, среди которых я сразу разглядел книги Юма и Беркли.
На нижней полке неровной стопкой лежали тетради с лекциями отца. Я открыл одну из них, но не смог разобрать ни слова: блуждающие буквы были похожи на череду кривых скрипичных ключей.
– Странно, – сказал я, – раньше почерк у него был красивый.
– Артрит, – сказал Сергей Ильич, стирая пыль с книг. – У него так сильно крутило суставы, что он не мог чертить – совсем. Очень страдал из-за этого. И писал с каждым днем все меньше и хуже – пальцы не гнулись.
– Я не был ни на одной из его лекций, – вырвалось у меня. – Стыдно признаться, но последние семь лет мы вообще не общались, даже по телефону. Я и не знал, что он стал преподавать. Вчерашний ваш звонок был для меня более чем неожиданным.
– Да, это случилось три года назад: у нас открылась вакансия, и я по старой дружбе предложил его кандидатуру.
– Он преподавал историю? – спросил я, открывая и закрывая жалюзи – кабинет то погружался в полумрак, то снова рассветал.
Сергей Ильич продолжал стирать пыль с книг, потом обернулся и рассеянно посмотрел на меня:
– Вы что-то говорили? Простите, я задумался.
– Я спросил: что конкретно он преподавал?
– О-о! Он прекрасно знал историю инженерного дела. Я сам несколько раз приходил послушать его лекции, – он стал перебирать тетради, нашел нужную, открыл и, преодолевая кривой почерк, прочитал:
«Первым в мире изобретением была лодка. Ее создал человек, который заметил, что упавшее в реку дерево отлично держится на воде. Именно этот образ – образ плывущего дерева – я считаю точкой отсчета инженерной мысли. А колесо?…нет, колесо появилось гораздо позже. Вначале была лодка».
Профессор читал лекцию вдохновенно, словно поэму. Когда он закончил, мы долго обсуждали ее. Потом я сказал:
– Что ж, наверно, мне даже и забирать отсюда нечего – кроме лекций, пожалуй.
– Почему это «нечего»? А как же макеты?