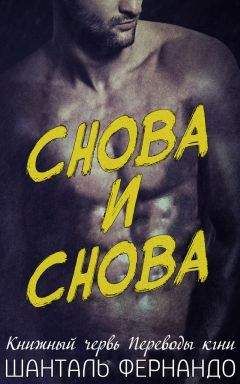Ксения Драгунская - Заблуждение велосипеда
— Не смей ко мне подходить. Я с тобой не разговариваю. Мне все это надоело. Сдам тебя в интернат.
Она уходит к себе, на второй этаж.
Интернат! Страшно…
Не разговаривает! Будет ходить и молчать. А я как раз хотела про школу, про сто двадцать седьмую школу!..
Но мама со мной не разговаривает.
Где-то там, между горлом и солнечным сплетением, у меня растет даже не комок, а тяжелый шар. Или не шар, а камень? Что-то, что болит, что мешает дышать.
Может, мама все-таки простит меня?
Я вхожу в ее комнату. Надо извиниться? Перед ней? Перед Ириной Ивановной? А за что?
— Что тебе? — не отрываясь от газеты, железным ледяным голосом спрашивает мама.
И я понимаю, что извиняться бесполезно.
Иду в свою комнату. Сижу. Полежав, мама встает, я слышу, что она прихорашивается у туалетного столика, спускается вниз, накрывает на крыльце стол для чая. Кто-то пришел пить чай. Тетя Аня Масс.
Ведь при гостях мама не будет со мной ругаться, может быть, получится помириться с ней?
Спускаюсь на крыльцо, здороваюсь. К столу меня не зовут. Сижу на скамейке. Мама смотрит на меня как на пустоту и ласково разговаривает с гостьей. Я выжидаю удобный момент и глажу маму по плечу.
Она стряхивает мою руку.
— Уйди от меня! — железным голосом говорит она.
— За что ты ее так? — любопытствует, поедая варенье, тетя Аня, большой специалист по детям, подростковый автор, пишущий про всякие там «набухшие бугорки» и первые поцелуи в пионерском лагере.
— Она знает, — отвечает мама своим фирменным, железно-ледяным голосом и снова ласково и весело разговаривает с тетей Аней.
Я смотрю на маму, на ее напудренное лицо, улыбающиеся, крашенные пунцовой помадой губы.
Какая же она противная… Все время притворяется, врет. Душится обильно духами, словно стараясь заглушить какой-то скверный запах.
Всегда на стороне тех, кто против меня. На стороне моих обидчиков. И у меня никого нет, кроме нее. Некому пожаловаться. Ни папы, ни бабушек с дедушками. Я целиком в ее власти, завишу от нее.
Этого я еще не могу осознать, сформулировать, но чувствую, что ненавижу ее всеми силами, что этот острый, больной комок где-то между горлом и солнечным сплетением и есть назревающая тяжелая, безысходная ненависть к ней.
Я ухожу.
Куда мне идти-то?.. К шлагбаумщице Тане с собаками? Обратно к Журавским? К тем, кто мне рад, кто не оттолкнет, не унизит прилюдно.
Да ну, начнут спрашивать, почему я такая грустная, еще расплачусь…
Пойти в лес и повеситься? Но дереву, наверное, не очень-то приятно, когда на нем мертвец болтается… Будут рыскать всякие там милиционеры, чужие дядьки, ничего не понимающие в нашем лесу, всю землянику потопчут…
Утопиться?
А как это?
Не получится.
Начну барахтаться и выплыву, стыдоба одна. К тому же это будет просто форменная подлянка по отношению к речке. Ведь я с ней дружу. Никогда не купаюсь, но дружу, и побольше всяких заядлых купальщиков.
Я долго сижу на песчаной полоске у воды. Хочется, чтобы пришел кто-то хороший, добрый, кто будет со мной разговаривать, что-нибудь подарит, возьмет с собой куда-то, где весело и интересно, где нет мамы…
Может, не вешаться и не топиться? Потерпеть? Все-таки мама старше меня на целых сорок два года, и, наверное, если повезет, умрет раньше меня и перестанет меня обижать. Нет, правда. Надо потерпеть. Потому что вдруг меня ждет что-нибудь хорошее, о чем я сейчас не знаю, — необыкновенные люди, путешествия, радость и счастье, корабли и города… А если я утоплюсь, я не увижу этого хорошего.
А если ничего меня не ждет? Вдруг, а? Так и просижу всю жизнь с чужими старухами. Вот ужас-то…
Топиться или нет?
Я смотрю на спокойную темную воду речки и ясно слышу:
— Иди домой.
Рядом никого.
Значит, это речка мне сказала? Какой у нее красивый, хрипловатый и ласковый голос.
И я иду домой, куда деваться-то…
Маме уже надоело злиться, держать роль, она просто берет с меня честное слово, что я буду вести себя хорошо, и чудно со мной общается.
Но мой «шар» никуда не исчезает. Он там, у меня внутри. Временно спит.
Бедная, бедная мама — тает, ветшает красота, надвигается старость, как-то не так сидит купленная втридорога у спекулянтов модная «кофточка», и очередной Георгий Борисович что-то давно не звонит…
Грусть, грусть, да и только…
На кого еще излить недовольство, на ком выместить тревогу и досаду, как не на дочери — ишь, вымахала! Не оправдывает ожиданий совершенно — просчитались, горько обманулись, думали-то, что будет светловолосый ангелочек, млеющий от счастья выносить горшки и драить полы, а что получилось? Выросло черт-те что… Не поймешь ее… И все что-то воображает из себя, пишет что-то целыми днями… Тоже мне… можно подумать…
Может, она меня не любила? Да нет же, любила. Наряжала. Жалела. Разрешала пропускать школу. Варила исключительный суп из сушеных грибов. Пела военные песни как колыбельные. Лечила, когда я болела.
Конечно, любила.
И очень любила впечатление, которое она производит на окружающих.
Просто непедагогично себя вела, хоть и педагог с дипломом.
Во всяком случае, смыслом, самым главным центром жизни я для своей мамы не являлась никогда, это точно. Она меня так не рассматривала, в таком качестве.
А это недальновидно.
Красавица, ничего не попишешь.
Мы с новорожденным Темой приехали из роддома. Ломит все тело, жар, ни фига не соображаю.
Сидим за столом с родителями моего мужа, «отмечаем».
Они уезжают домой. Я валюсь с ног в буквальном смысле слова, без всяких аллегорий.
— Знаешь, доченька, — говорит моя мама просительно и робко. — Отпусти меня, пожалуйста, в Дом литераторов, там сегодня вечер газеты «Московские новости»…
— Ну конечно, иди…
Какая разница, что я отвечу? Все равно она сделает так, как ей хочется. Она главная.
— Ой, спасибо, доченька, спасибо, — начинает оживленно собираться и прихорашиваться. — Все упадут, когда меня увидят, я же всем сказала, что ты сегодня из роддома… Штейны вообще обалдеют!
И она смеется от радости, что произведет впечатление, удивит.
Главное, чтобы Штейны обалдели.
Мой бедный муж, прилетевший со съемок из Средней Азии, только чтобы встретить нас из роддома, засыпает.
А я остаюсь разглядывать сына. У него большие щеки и длинные, длинные ресницы. Спит с важным видом. Отличный!
Как раз такого-то я и хотела.
Главное, обеспечить его тремя необходимыми составляющими счастливого детства:
ВЕЛОСИПЕДОМ
СОБАКОЙ
ПАПОЙ
Бедная, бедная мама, делавшая какие-то немыслимые операции по подтягиванию кожи лица и зашиванию оной в районе затылка, подрезавшая веки, чтобы молодо выглядеть, бедная мама, давно превратившаяся из полной накрашенной красавицы-блондинки в серенькую, похожую на мышку, постоянно зябнущую старушку, а потом в ангела, в крестик на Ваганьково.
Бедные, бедные красавицы…
Тетя Аня Масс в платьице с рюшечками на нашем крыльце — персонаж замечательный!
Папа ее, Владимир Захарович, автор сценария комедии «Веселые ребята», дружил с моим папой. Мой папа вроде бы поддерживал первые шаги тети Ани в детской литературе, давал ей рекомендацию в Союз писателей. Она любила повторять, что обожает его, что он для нее едва ли не учитель, и т. д. Ко мне тетя Аня всегда испытывала недоверчивую неприязнь. Я с детства это чувствовала. Может, потому что она считала себя большим специалистом по детям, а я в ее представления о том, что детям нужно, как-то не укладывалась. Не любила мороженое, например. Она мне не верила, думала, я выпендриваюсь. Ну не могут дети не любить мороженое!
Уже теперь, когда я давно выросла и стала матерью семейства, эта чудеснейшая гуманистка, обожательница моего отца, поспособствовала изведению моей собаки.
Бородатый Боцман убегал с нашего участка и бегал по поселку самостоятельно. Все его знали и любили.
Попался навстречу прославленный комедиограф Рязанов, создатель добрых комедий. Чисто профилактически, чтобы Боцман не подрался с его собакой, стал отмахиваться палкой.
Боцман тяпнул его.
Поскольку создатель добрых комедий являлся тогда председателем правления нашего дачного кооператива, местным «швондером», он распорядился Боцмана из поселка убрать.
(Вообще, народные любимцы, общепризнанные творцы светлого и доброго, вот как раз те самые, которые «любят людей», часто на деле оказываются крайне эгоистичны и жестоки к окружающим.)
Нас на даче не было. Боцмана и убрали. Тетя Аня знала, как и куда, но мне не сказала.
Неужели солидаризироваться со мной? Я-то кто такая? Смешно… Конечно же, с тем, кто главный, у кого и мошна потолще.
Обожательница моего папы. Шавка лакейская.