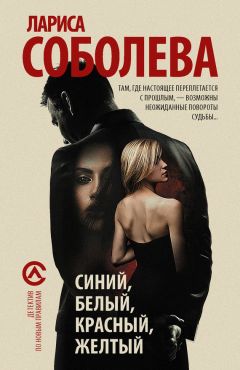Уильям Бойд - Нутро любого человека
Очень большой прием у леди Кунард[53]. Я чувствовал себя немного ошарашенным: это мой первый настоящий выход в свет. Там были Во, Гарольд Николсон, Далси Вон-Тарджетт, Освальд Мосли, Имоджин Гренфелл… Во поздравил меня с Шелли. Я поздравил его с „Мерзкой плотью“. Он показал мне Уильяма Гергарди, сказав, что это самый блестящий из ныне живущих писателей. Некоторое время Во рассказывал о том, как он готовится к переходу в католическую веру, а следом начал распространяться о непогрешимости и Чистилище. Я прервал его, сказав, что все это мне известно. Новость о том, что я католик, похоже, поразила его. Я заверил Во, что я законченный вероотступник, он сконфузился и поспешил меня покинуть. С какой стати человек, подобный ему, проникся желанием сменить веру да еще в таком возрасте?[54]
Пятница, 8 августа
Париж. Снова в добром старом, давно привычном отеле „Рембрандт“. Разошедшийся не по сезону дождь темнит тротуары, назойливый ветер стучит ставнями. Лэнд приедет на следующей неделе. Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais trouvé. [Ты не искал бы меня, если бы уже не обрел. Паскаль.] Я вышел в 6, выпил в „Липпе“ и затем прошелся по Монпарнассу, чтобы встретиться с Беном в „Клозери де Лил“. Пришел слишком рано и, хоть я не собирался заглядывать в „Дом Шанталь“ — все мои мысли заняты Лэнд, — однако, поскольку до него было рукой подать, все-таки, заглянул. Мадам Шанталь сердечно приветствовала меня и предложила на выбор одну из трех девушек в атласном белье, без дела сидевших в гостиной. „Вы же знаете, мне нравится только Анна“, — сказал я. „Да, но Анна ушла“, — ответила она и пояснила, что Анна сказала, будто в „работе“ она больше не нуждается, и потому покидает „Дом“. Где она, мадам Шанталь никакого представления не имеет.
Я испытал потрясение, а следом грусть. Жизнь иногда так с тобой и поступает — ведет по какому-нибудь пути и вдруг окунает в дерьмо. Я думал о днях Анна-мании, о том, как ее история вдохновила „Конвейер женщин“. И понял, что полагал — эгоистично, — будто Анна всегда будет здесь, что она не может просто исчезнуть, точно по мановению фокусника. За обедом я чувствовал себя немного подавленно, зато Бен был в ударе — его галерея начала подавать признаки жизни, кроме того, он много рассказывал о Сандрин. По-видимому, сынишка у нее совершенно очаровательный. Слышу дальний звон свадебных колоколов.
Суббота, 9 августа
„Рынок“. Спрашиваю у консьержки многоквартирного дома Анны, живет ли она еще здесь, та отвечает, что Анна и ее „дядя“ съехали, а куда — неизвестно. Сижу в маленьком bistro du coin, в котором познакомился с Полковником, ощущая и утрату, и недоумение, — а по некотором размышлении, и раздражение на себя. Не ожидал же я, что Анна оставит свой новый адрес всем своим постоянным клиентам? Бегство от такого существования это, наверное, благословение в чистом виде. С Анной все будет хорошо, у нее своя жизнь. Мне же следует сосредоточиться на Лэнд.
Вторник, 12 августа
Крайне неприятно. Возможно, причина в чем-то из съеденного прошлым вечером (banquette de veau[55])? Как бы там ни было, когда я нынче утром отправился в уборную, то ощущение было такое, словно я гажу серной кислотой. Задницу весь день жжет, она зудит, чуть ли не трескается, и ко времени, когда я отправился обедать с Лэнд, мне особо не полегчало. Лэнд, приехавшая якобы для того, чтобы усовершенствовать свой французский, остановилась на месяц в доме бизнесмена и коллекционера живописи, носящего имя Эмиль Берланже (большой покровитель Вернона Фодергилла). Берланже живут на авеню Фош в просторной квартире, наполненный посредственными пейзажами, среди которых выделяются, по меньшей мере, работы Вернона. С последней нашей встречи Лэнд изменила прическу: волосы у нее теперь пречерные, что, как ни странно, сообщает ей вид восхитительной шестнадцатилетки. Берланже обаятельны, их подчеркнуто хорошие манеры представляют собой род непробиваемых светских доспехов — в их присутствии и пошевелиться-то боязно, а уж почесаться или шмыгнуть носом значит и вовсе совершить бог весть какой faux pas[56]. Вследствие чего, я поминутно мучился мыслями о моем гремучем животе. Был там также некто по имени Кипрен Дьюдонне[57], назвавшийся писателем. „Впрочем, мое время давно миновало, — на великолепном английском сказал он. — Вот будь сейчас, э-э, 1910-й, знакомство со мной вас, возможно, несколько заинтересовало бы“. Он полный, добродушный, с почти совершенно круглым лицом. Растрепанные, редеющие волосы. Дал мне свою визитную карточку.
[Август]
Отвел Лэнд в галерею Бена, знакомить. Вроде бы, все прошло хорошо: Бен сказал ей: „Нам нужно будет обменяться впечатлениями, обновить мое досье на Логана“. Лэнд, бродя по галерее и разглядывая картины, сообщила: „Геддесу это понравилось бы. Надо будет его сюда привести“.
— Геддесу?
— Геддесу Брауну, дурачок. Он тоже в Париже.
А вот это уже новость плохая. Бен собирается на две недели в Бандоль, попросил меня составить ему компанию — очень соблазнительно. Но не могу же я бросить Лэнд в Париже на Геддеса Брауна.
[Август]
Завтрак в пивном баре „Лютеция“ с Лэнд и Геддесом. Они, похоже, совсем на дружеской ноге, у них даже есть общая шутка — что-то насчет Хью и одного из псов, — вспомнив об этом, они расхохотались чуть не до слез. Когда я спросил, в чем там было дело, мне ответили, что это слишком долго рассказывать.
Позже Лэнд сказала Брауну о галерее Бена, а затем высказала предположение, что Бен может стать для Брауна идеальным агентом — да еще и в Париже, не больше, не меньше.
— Ведь правда, это было бы прекрасно, Логан?
— Что? А… Да, прекрасно.
— Давайте сходим к нему. Прямо сегодня, под вечер.
Сколько рвения — и все ради Геддеса Брауна, сидевшего рядом, равнодушно пережевывая кусок мяса. Я сказал ей, что Бен уехал на юг, к Средиземному морю. На самом-то деле, через пару дней он должен вернуться, но будь я проклят, если стану оказывать Геддесу Брауну хоть какие-то услуги. В итоге, мы отправились в его ателье, запущенную квартирку невдалеке от Бастилии. Похоже, все, что он здесь пишет, это маленькие темные портреты соседей: сильные, костлявые лица, стилизованные, очень много черного цвета. Должен признать, они неплохи.
Понедельник, 25 августа
Это становится смешным. Я жарюсь в августовском Париже, ловя разрозненные, недолгие свидания с Лэнд, просто-напросто трачу попусту время. У Берланжеров дом в Трувиле, они проводят там август. М. Берланжер наезжает в Париж на день-другой, когда того требуют дела, так что Лэнд появляется здесь редко. Но, по крайности, в ее отсутствие я утешась тем, что она недоступна и для ненавистного Брауна. Думаю, это присущее ему сочетание мускулистой гибкости и херувимских, рассыпчатых светлых локонов внушает мне такое отвращение.
Следует рассказать об обеде с Дьюдонне — чрезвычайно спокойном, умудренном и при этом неуверенном в себе человеке. Он называет себя follement anglophile[58], ясно однако, что какую бы приязнь к нам он ни питал, таковая умеряется проницательнейшим глазом. Он рассказывал о „Les Cosmopolites“, о литературной обстановке в предвоенной Франции, о тогдашней одержимости путешествиями за границу, о воспевании le style anglais[59], умении ценить комфорт, который обеспечивали в ту пору и небольшие средства, о почти эротическом трепете, который охватывал, человека, оказавшегося вне собственной страны: посторонний, déraciné[60], гражданин мира, кочевник. Обещал познакомить меня с Ларбо, который перевел „Улисса“ и был очень близок к Джойсу („человеку в общении трудному“). Судя по всему, у Дьюдонне имеются собственные независимые средства, и немалые, чтобы понять это, довольно одного взгляда на его костюм: все, вплоть до соответственных ботинок, сделано на заказ. Говорит, что пишет примерно „две-три небольших статьи в год“, а поэзию забросил совсем — „это занятие для молодых людей“. Вся его жизнь пропитана культурой, сибаритством и экзотикой. Половину прошлого года он провел в Японии, говорит, что это совершенно завораживающая страна. Я попытался побольше выпытать у него о „Les Cosmopolites“. О, этот мир сгинул, сказал он, война изменила все. Когда я думаю о моей молодости, продолжал он, о том, что мы принимали как само собой разумеющееся, полагали навек несомненным, наделенным вечным существованием… Я был пленен: вот литературная жизнь, которую стоило вести; мне следовало родиться двумя десятилетиями раньше. Воображаю, что бы я сделал при моих-то 500 фунтах в год! Чувствую, во мне забрезжила идея следующей книги.