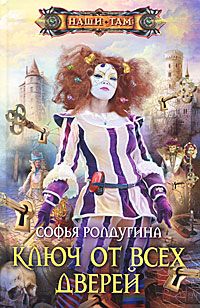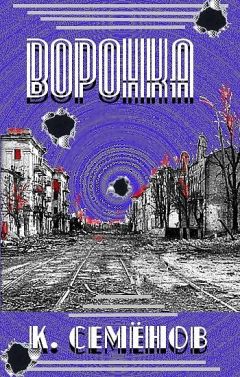Василий Аксенов - Ожог
Ким очень гордился этим своим знакомством с тоголезами Уфуа и Вуали. Победно поглядывал он на Суховертова – сопи, мол, в тряпочку ты, фрей с гондонной фабрики! В застарелом шовинистическом сердце вдруг разгорелся новый процесс любви.
Мы все удивлялись и умилялись тому, как вдруг крепко подружился с неграми известный ненавистник разных наций Ким Кошулин. Наконец-то с сорокалетним опозданием его имя, любовно отобранное родителями, энтузиастами Эпохи Реконструкции, стало соответствовать поведению. Мы начали было спорить – предложит ли Ким тоголезам скинуться на троих, а Ким, забрав у новых друзей по одному рублю тридцать восемь копеек, уже косолапил за банкой. Пяти минут не прошло, как новоиспеченная троица уже опрокинула по стакану «Ерофеича».
Выпив «Ерофеича», студенты хотели было попрощаться, но обаятельнейший господин Ким обхватил их за талии и выкатил глазища в лукавом скосе.
– Не пущу, Увуаль, и тебя, Борис, не пущу! Пьянка пьянкой, а попиздеть тоже надо. Ведь мы же люди – так? – или нет? – не обезьяны же человекообразные – верно? – ведь мы с вами не змееобразные крокодилы – правильно я говорю или ошибаюсь? Хотите, я вам медиума покажу? Между прочим, известный в прошлом бомбардир Александр Неяркий. Настоящий медиум – пиво ногой открывает! Алик, знакомься с товарищами из Конго! Того, говорите? Допускаю; главное, чтоб люди были, чтобы все по-человечески. Товарищи, у кого имеется бутылка пива?
– Опомнитесь, Ким! – с театральным широким жестом произнес неузнаваемо оживившийся Одудовский. – Какие же здесь бутылки пива? Ведь здесь же море пива! Пивная нирвана!
– Отскочи, падла, со своей ванной! – прорычал с отзвуком вчерашнего кошмара Ким. – Мне важно дружкам номер показать. Алька, может, лимонад откроешь?
Неяркий пожал квадратными плечами:
– В порядке исключения, можно.
Бутылка тоника «Саяны» была установлена на асфальте перед бликом, и тот, почти не глядя, мгновенным и ужасным ударом ботинка снял с нее металлическую пробку. Бутылка и не шелохнулась.
– И тара не страдает! – завизжал Ким. – Тара нисколечко не страдает, товарищи!
Он схватил за грудки Уфуа и брызнул ему в лицо фонтанчиком своей больной желтой слюны.
– Бутылка целая! Видите, пиздюки! Кто у вас так умеет? Небось посла германского сожрали, а бутылки вам жиды в Тель-Авиве открывают? Гады черножопые, всех бы передавил! Вррротттвсссррра-ккку…
Уфуа, серый от испуга, пытался спасти свой складненький парижский пиджачок. Все окружающие поняли – идиллии конец, Ким сорвался! Главный оппонент по нацвопросу Суховертов отодрал Кошулина от тоголеза и потащил за угол ремконторы, на ящики.
– Кимка, Кимка, спокойно, – бормотал Суховертов. – Кимка, как считаешь, «Спартак» «Шахтера» причешет?
Не мог смотреть Суховертов, как Ким позорится: ведь были они одногодки, всю жизнь провели вместе, еще с первого послевоенного розыгрыша, когда паршивый «Зенит» сделал дубль.
Ким тащился за другом, сцепив пальцы на затылке, плюясь и исторгая бессмысленный мат.
Тоголезы собрались было бежать, но тут другой господин русский, совсем уже очаровательный, раскрыл им свои объятия. Вот ведь как странно, черные студенты даже и не подозревали, что рядом с их общежитием каждое утро собирается клуб покровителей развивающихся стран.
Перед Петром Павловичем на газете «Социалистическая индустрия» распластался крупно нарезанный красавец, малороссийский помидор, и нежнейшие огурчики, как зародыши-крокодилята, окружали горку полтавской колбасы, а две чекушки удерживали по краям боевой листок нашей промышленности.
– Милости прошу, мадам и месье! – пропел Одудовский. – Где-то по большому счету я весь перед вами! Алик, вы присоединитесь к нашему столу?
– Вейт э вайл, феллоушип. – Бомбардир подмигнул неграм. – Сейчас дело закончу, и я ваш.
Как видим, не все в «Мужском клубе» пребывали по утрам в похмельной прострации. У Алика, например, было деловое свидание с механиком из гаражного кооператива, могущественным дядей Тимой. Ты мне поршни, я тебе вкладыши, ты мне диски, я тебе сальники – такое было дело, нормальный автомобильный рэкет.
Так начинал свой день «Мужской клуб» на Пионерском рынке. Кого грело летнее солнце, кого хлестал осенний дождь, кто как бы нежился в хвойной ванне, а кто сидел по горло в снегу. Ишанин, тот пребывал в вечной слякоти. Сейчас, желая согреться, он притиснул к себе Таисию Рыжикову и пытался застегнуть у нее на спине пуговицы своего пальто.
– Таська, я тебе сегодня палку брошу? Палку брошу? – гнусавил он.
Таисия туманно улыбалась белками закатившихся глаз.
Меня тут звали Академиком и считали своим. С Аликом Неярким я познакомился в районной психушке еще после первого приема антабуса. Ишанина я как-то поймал на попытке ограбления моей квартиры, когда тот, взломав замки, увлекся вдруг четвертой серией «Адъютанта его превосходительства» и, посасывая мой виски, закемарил у ящика. С Кимом и Суховертовым мы «играли горниста», то есть дули водку из горлышка «на троих», почитай, в каждом неохраняемом подъезде микрорайона. С Петром Павловичем Одудовским мы одно время сблизились на почве толкования «Дхаммапады», увлечения йогой и вообще Индией, перезванивались по десять раз на день, а супруга его даже завела собственный ключик от моей двери.
Частенько среди ночи я слышал в коридоре легонькую поступь ее босых ног, а потом видел сквозь сон прямо над носом большую голую грудь с острым соском и чувствовал покалывание длинных ногтей, ведущих разведку у меня в промежности. Дружеские эти визиты были бы даже милы, если бы мадам Одудовская не начинала в энергические моменты голосить не своим голосом:
– Улетаю! У-ле-та-ю!
Впрочем, успокаивал я себя, довольно трудно догадаться, из какой квартиры нашего шестнадцатиэтажного гиганта кричит в данный момент эта мятущаяся натура. Я и сам ранее с бульвара неоднократно слышал этот крик, но всякий раз думал, что это удачная радиопостановка.
Патрику Тандерджету чрезвычайно понравился «Мужской клуб», он сразу почувствовал себя здесь в своей тарелке.
– Какие симпатичные все, – говорил он, оглядывая мельтешащие вокруг землистые и багровые до синевы лица в алкогольных паучках, с разросшимися родинками, фингалами, фиксами, мутными гляделками и сизыми сопелками. – Вот, сразу видно, неквадратные ребята! Я бы их всех переселил в Калифорнию.
Подражая Петру Павловичу, мы закупили на рынке продуктов и сели по-турецки под стеклянной стеной супермаркета, чтобы вкусить свой аристократический завтрак. Мы подливали в пиво перцовку и апельсиновую настойку, а закусывали мыльной глубоководной нототенией и сыром «Рокфор», этим гнилостным какашечным стилягой в семье здоровых советских сыров, а также охотничьими сосисками, нафаршированными диким салом Потребсоюза, почечным полуфабрикатом из индийской птицы и клубничной пастой из румынской нефти.
– Эй, Академик! – крикнул мне издали Алик Неяркий. – Я гляжу, ты развязал!
– Кореш приехал! – Я показал на Патрика редиской. – Американский профессор!
Алику, видно, очень хотелось присоединиться к нам, но вконец обалдевшие тоголезы танцевали вокруг него ритуальный танец, и он поднял над головой сжатые ладони. Патрик послал ему в ответ воздушный поцелуй.
– Что это за наемный убийца? – спросил он восхищенно.
– Босиком гуляете, чуваки? – крикнул нам Алик. – Нью фэшн, изн'т ит?
Он стукнул лбами Уфуа и Вуали и стал пробираться к нам.
А за огромной стеклянной стеной, что возвышалась над нами, уже заработал супермаркет. Временами возникала почти миражная картина: входила какая-нибудь циркачка или балеринка в джинсовом костюме, брала расфасованный товар и удалялась, сильно работая задом, – ну, просто Малая Европа. Впрочем, тут же в кадр врывалась тетка с загнанными глазами очередницы или проплывал кривоногий узбек с орденами на плюшечном халате, и мираж рассеивался.
Вдруг за стеклом прямо против нас остановилась администраторша. Мы наблюдали ее завершенный образ: большое и ноздреватое тело едва помещалось в накрахмаленном халате, капронах и чулочных сапогах, на голове зиждилась башня из волос. Даже у страшного призрака детства из учебника естествознания «Волосатого человека Адриана Евтихеева» не хватило бы волос на такое дело. Далее – зоб Марии-Антуанетты, носик-пупсик, эталон довоенного кинематографа, строгий взгляд завотделом культуры мадам Калашниковой, и лишь в самой глубине глаз, словно озера Эльтон и Баскунчак, отсвечивало постоянное мучительное желание раскорячиться.
Вот и эта тварь напоминает мне кого-то из прошлого, подумал я, так же, как кассирша в метро, как гардеробщик в институте, как гардеробщик в баре, как Теодорус из Катанги… все они напоминают нечто связанное с пластами солнечного снега и черным пятном на снегу, с неким пространством позора и с некой личностью, царьком этого пространства, сексотом?… уполномоченным?., опер-капитаном? Это все фокусы алкоголя, результаты хронического невроза, должно быть…