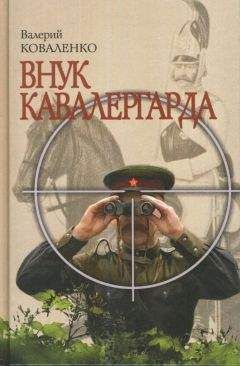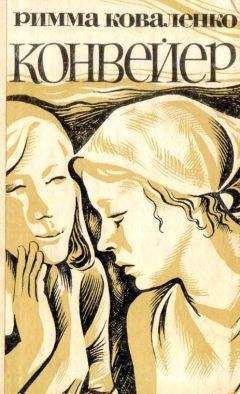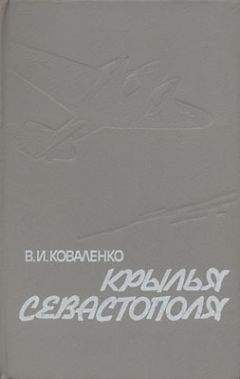Владимир Топорков - Отцовская гармонь
– Ну, расти, герой! А гармонь – это как память обо мне, понял? Приеду с фронта – чтоб играл!
Родители почти бегом исчезли за калиткой, а тётка Даша, напоив меня чаем, уложила в постель, и через минуту я уже спал, сломленный жарой и усталостью.
* * *На другой день за нами приехал на телеге дед Дмитрий. Двадцать вёрст, как выражался дед, мы тащились вдоль небольшой речушки, то исчезавшей, то опять встававшей на нашем пути ивовыми зарослями по берегам, мелководьем. Когда подъезжали к броду, дед соскакивал с телеги, разнуздывал лошадь, отпускал подпругу – поить лошадь. Пока коняга фыркал, причудливо оттопырив нижнюю губу, пил жадными глотками, дед сбрасывал сапоги, заворачивал штанины и блаженно опускал ноги в воду.
– Вишь, домовой любезный, копыта у меня устали. Помочишь – они малость и отойдут.
Признаться, я не очень понимал, о каких копытах шла речь, но чувствовал дедово блаженство. И мне самому хотелось ударить вприпрыжку по золотистому песку, но мать всякий раз укорачивала мою прыть:
– Ты, Алёшенька, сиди! Тут не вода, а лёд, родники сплошные.
Уже перед самой деревней дед остановил лошадь, развернул платок, в который он перед выездом завернул гармонь, положил её повыше на чемодан.
– Зачем это вы, папаша? – спросила мать.
– А чтоб, значит, вся деревня видела, каков у Алёхи нашего отцовский подарок, поняла? – Дед весело подмигнул мне.
Деревня мне понравилась сразу. По нынешним моим понятиям был это крохотный хуторок, разбросавший свои двадцать домишек, как копёшки на лугу, но тогда показался мне он большой деревней. А самое главное – в центре, перед дедовой хатой, багровел от вечерней зари пруд. Не знаю почему, но тяга к воде у меня на всю жизнь с детства.
Дома дед, указывая на меня, хвастливо говорил моей старшей сестре Шуре – она жила у него уже третий год:
– Видала гармониста? То-то… Теперь от деревенских девок отбоя не будет: гармонисты, они, домовой любезный, нарасхват. Угодил Петро с подарком, – и опять подмигнул, теперь уже сестре.
А вечером, отправляясь доить корову (дед эту процедуру не доверил ни моей сестре, ни тем более моей матери-горожанке: ещё, домовые любезные, испортят животину), говорил мне:
– Смотри, Алёха, каждый день за инструмент садись. Отец твой от тележного скрипа вздрагивал, а теперь доблестный офицер. Должен же ты ради отца эту премудрость освоить.
* * *Играть я научился к концу войны, научился, что называется, за один день. У меня уже было так однажды. В декабре сорок первого сосед-десятиклассник Юрка Бочаров перед отправкой на фронт перекинул через плетень мне свои дутыши-коньки, крикнул:
– Бери, Алёха, на память о солдате. Приду с фронта – чтоб чемпионом был, не менее.
Подарок Юрки, зависть всей деревни, я сразу унёс домой. Не мешкая, отправился к берегу пруда, сыромятными ремнями прикрутил сверкающие дутыши к валенкам, разбежался, прыгнул на лёд и… в долю секунды ноги оказались выше головы, а потом удар плечом, с хрустом, невообразимой болью, обжигающий холод шершавого льда. Превозмогая себя, я вскочил на ноги, – а вдруг кто заметит мой позор! И снова неуклюжий пируэт ногами в воздухе, и снова болезненное приземление. Чувствуя, что у меня ничего не получается, протопал по снегу домой, прихватил в сенях металлический крюк, которым дед ежедневно дёргал солому в скирде для коровы. Теперь я приобрёл дополнительную опору. Расставив широко ноги, я с силой отталкивался крюком и легко скользил по янтарному льду. Но стоило хоть на мгновение отбросить крюк – и я снова летел на спину, передёрнув высоко вскинутыми ногами.
Так продолжалось несколько дней. Я уже смирился с участью, что коньки не освоить, как вдруг однажды – будь что будет, – разбежавшись по откосу, неожиданно для себя покатился плавно, не подгибая ног, с каждым толчком приобретая всё большую уверенность.
Вот так же однажды пальцы утратили ломкость, стали гибкими, легко и уверенно забегали по клавишам гармони, и она через свои медные ноздри выпустила стройные звуки. Учить меня было некому: деревенские гармонисты где-то далеко под другую музыку ходили в атаку, корчились и стонали от ран в госпиталях, а для моих сверстников музыкальная премудрость была недосягаема. Желание научиться играть было непреодолимым, и поэтому ежедневно часа по два, ломая на колене инструмент, терпеливо ждал я этого мгновения, когда будет у меня что-то получаться. Но гармонь, изгибаясь в руках, визжала ошалелой метелью, храпела норовистой лошадью и словно навсегда утратила свою напевность и мелодичность.
– Ну что, Алёха, – шутил дед, – опять «гони кур со двора» получается? Может, и правда, бесталанный ты человек, зря время тратишь? Оно ведь как в жизни: одному – печка, другому – свечка. У нас был печник Иван Фомич. Тот, бывало, встретит председателя колхозного Семёна Дорофеевича, по плечу похлопает и говорит с ухмылкой: «Нас, Дорофеевич, в колхозе двое главных: ты по политике – речи казать, а я по печному – дымоходы ладить». Дорофеевич – в гордыню, дескать, сравнил орла с курицей, а Иван Фомич ему в ответ: «А ты попробуй печную науку одолей…»
Дедовы слова меня злили, и гармонь ещё круче изгибала мехи, но в этой ярости вообще всякий лад утрачивался, пальцы становились вязкими и липкими, словно от пота. Не знаю, говорил дед те слова просто так, от души, или с тайным умыслом разжечь меня, подзадорить. Скорее всего было в его речах последнее, стремление не угасить во мне пыл, взбудоражить волю. И я снова и снова рвал гармонь, кидая пальцы по басам.
И когда по избе, впервые чисто, стройно покатились звуки, я был на седьмом небе. Дед, прибираясь по хозяйству, заглянул в комнату, с минуту постоял на пороге, послушал, а потом жаворонком вспорхнул на середину комнаты и как был – в грязных, измазанных коровьим помётом валенках с галошами, в фуфайке – пошёл в пляс, приговаривая:
Самовар, чайник,
Федька-начальник…
Я захохотал, глядя на такую стариковскую прыть. Дед прекратил свою круговерть, содрал с головы шапку, шмякнул её об пол:
– Молодец, Алёха! Хоть в доме радость появилась. А то живём, как в лесу, пням Богу молимся.
Прав был дед: радость наш дом давно покинула, воробьём встрепенулась в первый военный год, когда пришла зелёная похоронка на отца. В раздольной степной Украине покоились теперь его останки.
Мать не вникала в мои музыкальные упражнения, ходила отрешённая. Даже я замечал: остановилась для неё жизнь, резко, как грузовик, затормозила, а сама она движется, работает, разговаривает только по привычке, машинально, как корова жвачку жуёт. Но в тот день, вернувшись с работы и услышав от деда новость про мои музыкальные успехи, попросила:
– А что, сынок, сыграй, может быть, на душе поблаже станет.
И я снова развернул гармонь в плясовую, и дед – руки в бока – затопал по горнице, тряся по-козлиному бородой:
Ах, что ж ты стоишь,
Посвистываешь?
Картуз потерял –
Не разыскиваешь…
В мать струёй чистого воздуха входила жизнь, подобрел взгляд, поднялись брови, искорками, как от яркого света, вспыхнули глаза. Улыбка, хоть и натянутая ниткой, на губах замерла.
Конечно, такое настроение матери мимо деда не прошло незамеченным, и он гигикал с особым рвением, высоко поднимал ноги, бил по ним ладонями:
Из-под крыши воробей,
Милка бросит – не робей,
Лошадка белоногая,
Любовь за сердце трогает.
Потом, резко ударив по половицам, остановился, перевёл дух и сказал, как будто про себя:
– Жизнь, она, домовой любезный, на нас не закончится, продолжение иметь будет. Так что ты, Оля, не печалься. Алёха подрастёт – мужика в доме заменит. И в поле жнец, и на дуде игрец.
С тех пор дед меня часто просил:
– Ты, Алёха, сегодня, когда бабы (намёк на мать с сестрой) с работы вернутся – сыграй. Пусть порадуются, душу отведут. У них, у баб, радости даже на петушиный крик нету – война отняла. Одна работа да душевные горести остались. Как гнёт на кадку, забота давит…
Семейные концерты с дедовой пляской и задористыми частушками были теперь у нас часто. А вот чтоб в деревне, на миру сыграть – я стеснялся. Да и отвыкли люди за войну от песен, плясок. Не до этого было. И даже в День Победы, узнав об этой великой радости, сбежавшись на выгон посреди деревни, заголосили бабы пуще прежнего. Никогда не знал я до этого, что и от радости человек может реветь.
Только дед, быстро оценив обстановку, приказал мне:
– А ну, Алёха, волоки гармонь.
Я помчался домой, схватил гармонь и, развернув мехи, вдарил такого плясового, что и сам удивился: гармонь взахлёб пошла, родниковой водой забулькала. Скорее всего от удивления прекратили бабы плач, как подсолнухи на солнце, повернули головы в мою сторону. И когда я подошёл поближе, самая бойкая из них, Стешка Мазухина, тоже вдова, крикнула громко, будто приказ отдала: