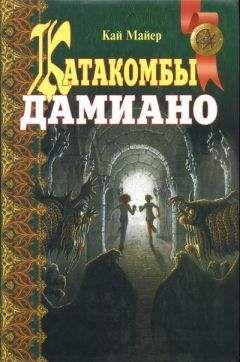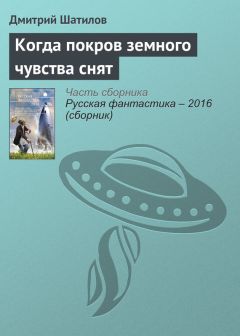Малькольм Лаури - НЕУСТРАШИМЫЙ КОРАБЛИК
Астрид и Сигурд подошли к большой вольере чуть в стороне от дороги, где два канадских клена (багряные кисточки, изящные предшественники листьев, уже пробивались на их ветках) возносили свои стволы над крышей, а укромная пещера сбоку служила логовом, и все вместе, если исключить переднюю стенку из прутьев, было затянуто толстой сеткой с крупными ячейками, которая считалась надежной защитой от одного из самых сатанинских зверей, еще обитающих на земле.
В клетке жили двое животных, пятнистых, как обманчиво пастельные леопарды, и похожих на изукрашенных буйнопомешанных кошек - их уши были снабжены большими кисточками, и, словно злобно пародируя канадские клены, такие же кисточки свисали с их подбородков. Их ноги были длиной с руку взрослого мужчины, а лапы, одетые серым мехом, из которого внезапно возникали когти, изогнутые, как ятаганы, не уступали по величине его сжатому кулаку.
И эти два прекрасных демонических существа без конца мерили и мерили шагами свою клетку, обследуя основание решетки, сквозь прутья которой как раз можно было просунуть смертоносную лапу (и всегда на безопасном расстоянии в один воробьиный скачок от нее почти невидимый воробей продолжал что-то клевать в пыли), с неутолимой кровожадностью высматривая добычу и в тщетном отчаянии пытаясь найти какую-нибудь лазейку наружу, ритмично встречаясь и расходясь, точно проклятые души под гнетом необоримых чар.
И все время, пока они следили за страшными канадскими рысями, в зверином облике которых словно воплотилась вся первобытная ярость природы, пока они сами грызли арахис, передавая друг другу мешочек, перед глазами влюбленных по-прежнему плыл, борясь с волнами, крохотный кораблик, игрушка еще более бешеной ярости, - плыл все годы до рождения Астрид.
О, как безмерно одинок был он среди этих вод, среди этой пустыни бурных дождливых морей, где нет даже морских птиц, во власти переменчивых ветров или исполинской мертвой зыби, которая приходит с безветрием по стопам урагана; а затем ветер задувал вновь и гнал над морем соленые брызги, точно дождь, точно мираж сотворения мира, гнал крохотный кораблик, и тот карабкался по крутым пряжам к небесам, откуда били шипящие кобальтовые молнии, и нырял в бездну, и уже снова карабкался вверх, а все море, исчерченное гребнями пены, курчавой, как руно ягненка, неслось мимо него в подветренную сторону, все необъятное увлекаемое луной пространство, подобное лугам, долинам и снежным хребтам какой-то мечущейся в горячке Сьерра-Мадре, в непрестанном движении, взмывая и падая - и маленький кораблик взмывал и падал в парализующее море белого текучего огня и курящихся брызг, которое, казалось, одолевало его; и все это время - звук, подобный пронзительному пению и тем не менее последовательно гармоничный, как звон телеграфных проводов, или как немыслимо высокий вечный звук ветра там, где некому его слушать; и может быть, его вовсе нет или же это призрак ветра в снастях давно погибших кораблей, а может быть, это был звук ветра в его игрушечных снастях, когда кораблик вновь устремлялся вперед; но и тогда - какие неизмеренные глубины пришлось ему пересечь, пока неведомо какие зловещие птицы не повернули наконец ради него к небесам, пока неведомые железные птицы с сабельными крыльями, вечно стригущие мутную мглу над безграничностью серых валов, не передали ему, одинокому нетонущему суденышку, свое таинственное умение находить родину, подталкивая его клювами под золотыми закатами в синем небе, когда он подплывал к горным облачным берегам, над которыми горели звезды, или вновь - к пылающим берегам на закате, когда за эти двенадцать лет он огибал не только чудовищные, похожие на печи для сжигания опилок на лесопильнях, забрызганные пеной рифы мыса Флаттери, но и другие неизвестные мысы, гигантские шпили, образы и подобия нагой опустошенности, к которым выброшенное на них сердце пригвождено навек! И самое странное - сколько настоящих кораблей грозило ему гибелью во время этого путешествия протяженностью всего в пять-шесть десятков миль по прямой от места, где он пустился в плавание, и до порта прибытия, когда они возникали из тумана и, не причинив ему вреда, проходили мимо все эти годы (а ведь это были и последние годы парусных кораблей, которые, поставив все паруса вплоть до трюмселей, проносились мимо навстречу своему небытию): суда, груженные пушками или сталью для надвигающихся войн, и те грузовые пароходы, ныне покоящиеся на дне морском, на которых плавал он сам, Сигурд, пароходы, чьи трюмы наполнены старым мрамором, и вином, и вишнями в морской соли, и те, чьи машины и теперь все еще где-нибудь тихо напевают: "Frere Jacques! Frere Jacques!"
Что это была за дивная поэма о милосердии Божьем!
Внезапно у них перед глазами вверх по дереву у клетки взбежала белка и, пронзительно зацокав, прыгнула вниз и шмыгнула по верхней сетке. Тут же быстрая и смертоносная, как молния, одна из рысей взвилась на двадцать футов вверх, прямо к белке на крыше клетки: от удара ее тела проволока звякнула, словно гигантская гитара, а над сеткой мелькнули ятаганы когтей. Астрид вскрикнула и спрятала лицо в ладонях.
Однако белка, целая и невредимая, уже грациозно пробежала по другой ветке, потом вниз по стволу и скрылась из виду, но разъяренная рысь снова взметнулась прямо вверх, и снова, и снова, и снова, а самка, припав к земле, шипела и рычала внизу.
Сигурд и Астрид рассмеялись. Затем они смутно почувствовали, что все это несправедливо по отношению к рыси, которая теперь угрюмо вылизывала морду подруги. Невинная белочка, удачному бегству которой они так обрадовались, словно проделала все это напоказ и в отличие от поглощенного своим делом воробья как будто нарочно дразнила запертого в клетке зверя. После недолгого размышления им уже казалось, что такое спасение в последний миг от почти верной гибели - тысяча шансов против одного - событие самое будничное, повторяющееся чуть ли не каждый день, а потому оно утрачивало смысл. И тут же им представилось, что факт их присутствия при этом был, наоборот, исполнен смысла.
- Ты знаешь, как я прочитывал каждый номер газеты и ждал, - говорил Сигурд, пригибаясь, чтобы разжечь трубку, когда они пошли дальше.
- "Сиэтл стар", - сказала Астрид.
- "Сиэтл стар"... Моя самая первая газета. Отец утверждал, что кораблик уплыл на юг, может быть в Мексику, но дедушка, насколько помню, не соглашался: если только он не разбился на Татуше, течение унесло его прямо в пролив Хуан-де-Фука, а может, даже и в самый залив Пьюджет-Саунд. Ну, я еще долго пролистывал номера газеты и ждал, но в конце концов, как это бывает с детьми, я перестал их листать.
- А годы шли...
- И я вырос. Дедушка тогда уже умер. А отец... ты все это знаешь. Ну, теперь он тоже давно в могиле. Но я не забывал. Двенадцать лет! Только подумать... Он же плавал дольше, чем мы с тобой женаты.
- А мы женаты уже семь лет...
- Сегодня исполняется семь лет...
- Это кажется чудом!
Но их слова падали перед мишенью этого факта, словно стрелы на излете.
Они покинули лес и шли теперь между двумя длинными рядами японских вишен, которым через месяц предстояло преобразиться в воздушную аллею небесного цветения. Потом вишни остались позади и вновь показался лес - справа и слева от широкой вырубки, огибая два рукава бухты. Когда по пологому склону они начали спускаться к морю здесь, в стороне от порта, ветер сразу засвежел; чайки, сизые и сиплые, с воплями кружили и планировали в вышине и внезапно оказались уже далеко в море.
И перед ними теперь лежало море, у подножия откоса, который переходил в крутой пляж, - нагое море, колышущее внизу свои глубокие воды, без гранитной облицовки, без набережных или приветливых хижин, хотя слева и виднелись хорошенькие домики и одно окно было освещено, ласково сияя сквозь деревья на самой опушке леса, словно какой-то могучий канадский Адам хладнокровию прокрался со своей Евой назад в рай под пылающим мечом муниципального херувима.
Был отлив. Вдали от берега пенные валы убегали за мыс. Буйное отступление потока чеканного серебра было таким стремительным, что казалось, будто самая поверхность моря уносится прочь.
Дорожка перешла в шлаковую тропинку у знакомой подветренной стороны старого дощатого строения - пустого кафе, заколоченного еще с прошлого лета. Сухие листья ползли по крыльцу, за которым на откосе справа, под бушующей березовой рощицей, лежали перевернутые скамьи, столики, сломанные качели. От рева отступающего отлива все здесь и дальше казалось холодным, печальным, нечеловеческим. И однако, между влюбленными было то, что струилось подобно теплу и могло бы распахнуть ставни, поставить скамьи и столики на ножки и наполнить рощицу летними голосами и детским смехом. Под защитой павильона Астрид приостановилась, держа ладонь на локте Сигурда, и сказала слова, которые она тоже уже много раз говорила прежде, а потому они всегда повторяли их, почти как напевные заклинания: