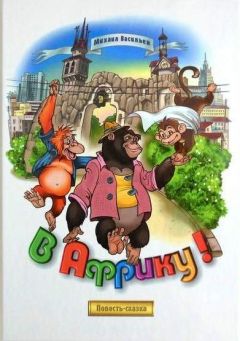Уильям Сэнсом - Старик в одиночестве
Солнце полыхало со всей послеполуденной яростью и пропитывало кирпичи, черепицу, камни мостовых и зашторенные окна жаром, который позднее укутает бездыханный вечер. Потом оно стало скатываться и заволакивать широкое небо голубыми отблесками и странными оранжевыми прядями, заставляя трубы за окнами светиться чем‑то ярким и оранжево–красным. В комнате желтые полосочки газа поголубели и поникли, а потом стали друг за другом гаснуть с легкими хлопками. Когда старик упал, эти язычки горели полным пламенем, прыгали и веселились весь полдень, и теперь комната под крышей с распахнутым в городской зной окном сама накалилась, как печь. Только пудинг остыл, и у газовой плиты старик: бледная и гладкая его кожа казалась, как всегда, холодной.
Вытертый в пятнах линолеум с чем‑то синим на тускло–красном фоне можно было бы принять за турецкий ковер, если бы не проступал на нем навязчивый рисунок из ирисов. Стены, когда‑то покрашенные в кремовый цвет, чтобы в комнате казалось светлее, от стряпни и времени стали темно–оранжевыми. Комната была тусклой, потрепанной и заношенной, в ней светились только стекла кувшинчиков, несколько цветных жестянок да кухонная утварь. Красный будильник стоял посреди камина и тикал по–деловому звонко, вторя черным мухам, которые непрестанно кружились друг за дружкой у голой лампочки под пыльным соском розетки в центре потолка.
Тикал красный будильник. Канарейка стучала клювом в белую косточку. Случайный вздох бриза взметнул угол газеты. Гаснущий луч солнца медленно обошел вокруг стен: по наколотому календарю, каждому скучному сучку в щели дубовой двери, старому китайскому выключателю и пыльному лепному фризу, по яркой картинке от сигаретной коробки, приклеенной на стену, чтобы закрыть трещинку, которая потом все равно поползла вверх и вниз, и, наконец, по кухонному шкафу со стопкой газет наверху, а рядом с газетами — по чистенькой, сияющей вазочке для варенья, и вазочка возгордилась и засверкала, будто кубок, важным хрусталем.
В начале восьмого, пролежав без памяти часа три с половиной, старик открыл глаза.
Несколько мгновений он бессмысленно смотрел на хрустальный кубок. Чудом было, пробудясь, увидеть эту чистую утреннюю солнечную росу, усыпанный бриллиантами тонкий подсвечник, и глубокое сонное блаженство разлилось в нем. Но когда глаза его опустились, он увидел пудинг на полу и вспомнил. Несколько минут он озадаченно думал, будто все произошло ужасно давно, потом снова попытался двинуться, но пошевелился опять только в воображении: тело так и осталось на месте. Удалось пошевелить лишь шеей; он отвел голову наискосок, как задушенный, и посмотрел вдоль туловища на безжизненные ноги: они были на месте, он их видел, это были его собственные ноги, но чувствовал он их не больше, чем ноги любого постороннего.
И постепенно до него дошло: это паралич. А может быть, они только отнялись на минуту, и он ничего в этом не понимает? Старик поднял глаза к часам, по цифрам в мушиных точках медленно сообразил, который час, и тогда рот его в ужасе раскрылся и вырвался первый глухой, хриплый от иссохшего горла крик: «Помогите!»
Прозвучал он, вероятно, как шепот. Дверь была закрыта, и на два этажа вниз по пустым лестницам и площадкам — ни души. Под ним пустая квартира, на пятьдесят футов ниже за окном колодец пустой гостиницы и крыша гаража. Была пятница. До понедельника, пожалуй, никто не заглянет. И незачем кому‑то вообще сюда заглядывать. Он перевел взгляд на окно и убедился, что солнце садится: уходил его последний прощальный красный луч, и на небе воцарялся вечерний покой; еще один день окончился.
Мне бы только добраться до пудинга, — подумал старик, — а как потом до дверной ручки и лестницы?… Далеко… Сперва до пудинга… Надо как‑то подкрепить силы… Мне нельзя голодать…
Он задержал дыхание и попытался пошевелить руками: руки двигались, хотя оцепенело и скованно, как изувеченные, но всё же двигались.
Насколько мог, он вытянул их вперед по полу, прижал пальцы к гладкому линолеуму и подтянулся. Все тело рванула острая боль. Он обмяк, но, когда пальцы оторвались от линолеума, заметил, что и в самом деле сумел протащить вперед свое мертвое тело на целый дюйм. Между глазом и ножкой кухонного столика он заметил обгорелую спичку: она отодвинулась на дюйм; спичка лежала так близко от глаза, что в этом не могло быть сомнения.
Он снова подтянулся, и снова его пронзила боль. Старик подождал, пока она стихнет, и попытался опять. Еще один дюйм, а всего три. Только больше нет сил. Боль с каждым разом накапливалась, и старик опустил голову на линолеум, чтобы отдохнуть.
Он посмотрел на пудинг вдоль пола. Перевернутые комочки ирисов показались ему падающими бомбами. Ох, сколько же их! А пудинг в луже воды и сковородка оставались в недостижимой дали. Чтобы добраться туда, если только это вообще удастся, уйдет несколько часов. И тогда в его уме пронеслось: пятница, сегодня только пятница! И никто на свете не придет сюда до понедельника; значит, сегодняшняя ночь, еще одна ночь и… понедельник, а кто тогда сможет прийти? И сердце старика разрыдалось: Боже! миссис Рабинович, Милли, родненькая… но он сжал себя, снова посмотрел вдоль линолеума и стал подсчитывать умопомрачительные ирисы до пудинга: когда всё перевернулось вверх тормашками, так нужно стало что‑нибудь измерять. Он считал летящие к нему бомбы: одна, две, три, четыре; но от пологой перспективы они смешивались и сливались к расплющенному пудингу в мешочке, бесформенному бледному куску с торчащими ушками узелков, будто затаился там в конце, выжидая, живой чертёнок.
Хрустальный кувшин уже не сверкал. Солнце отвалилось от окна, и в полусвете звуки заплывали ровнее: хлопотливо стучали тарелки на гостиничной кухне, кто‑то кого‑то позвал, по лестничной клетке прокатился отчетливый смех и упал на замусоленные белые плитки внизу. Включили радио, заревела музыка театрального оркестра, смолкла на миг перед аплодисментами и смехом сотен людей. Нарастал вечерний гул машин на театральных улицах. За последним бледно–розовым лучом на небе вспыхнул первый красный неон. Весь мир был заполнен людьми, близкими, но далекими. Если б я смог подняться на три фута к окну, думал старик, мне бы помогли… но боль не даст, и он знал, что может лишь медленно подтягиваться, а до подоконника и спасения — всего лишь высота стула.
Беспомощность он ощущал острее одиночества. Беспомощность раздражала его, но сохранилась старая привычка к дисциплине и ответственности. Осталось умение не ждать многого и делать, без жалоб, что надо.
Он с отвращением вспоминал госпиталя, когда не двигались ноги или сводило живот, и кто‑то должен был поднимать его на подушках и умывать. Он вспомнил, как провел три недели без воды в южноафриканском вельде, то далекое солнце и боль жажды, но помнил тупую решимость стиснутых челюстей, которая и спасла его. Он помнил, как шел в строю по сухому и каменистому Патанскому перевалу, а с верхних скал сыпались пули, и простое терпение позволяло им идти вперед даже больше, чем отвага или отчаяние. Во время прошлой войны он пережил гибель двух своих сыновей, а затем — смерть жены. Эту утрату спутницы, почти полного своего повторения, любовью и верностью связанной с ним полвека, перенести без жалобы было труднее всего. Несколько месяцев после ее смерти он чувствовал, что вот–вот сломится. Но он выздоровел, и, как прежде, ощутил опору в себе самом. Ему нравилось сознавать, что он сам в состоянии присмотреть за собой.
Послушав какое‑то время, он вздохнул, сжал зубы и подтянулся опять. Отдохнул. Прислушался к раскатистому реву автобусов. Усилие. Отдых. Уж лучше эти дразнящие звуки, чем ничего: они были ему обществом, тем самым обществом, в котором он жил всегда, где люди и вещи были отстраненными и близкими. Бояться следовало тишины. Им овладел страх перед глубокой ночью, когда город заснет; он присосался пальцами к линолеуму, напряг локоть, подтянулся, отдохнул, подтянулся.
Он страшно ослаб. С возрастом он привык к слабости, но сейчас от этой медленной борьбы в жаркой комнатке ему, кроме всего прочего, захотелось пить, и он ощутил себя тонущим пловцом. Теперь при каждой подтяжке он не мог продвинуться даже на дюйм. Он делал попытки снова и снова, отдыхал, тяжело дыша от неотступной боли, пока, наконец, усталость не усыпила его.
Через несколько часов, примерно в четыре утра, он проснулся, потому что ему не хватало воздуха. Ему приснился кошмар. Давний позабытый случай вдруг ожил в сонном мозгу и заслонил собой всё. Когда‑то на его памяти, еще до того, как появились хорошие обезболивающие средства, зубные врачи привязывали своих пациентов к креслу: иначе они не смогли бы обработать больной зуб с нужной точностью. И однажды в пятницу вечером, после того, как медсестру отпустили домой, в зубоврачебном кабинете сидел привязанный мужчина. Врач закрепил у него во рту кривую трубочку для откачивания слюны, включил отсос и тут же рухнул замертво от разрыва сердца. Падая, он сильно ударил пациента по челюсти, но отсос не выключился. Никто не должен был зайти в кабинет до понедельника, и больной так и сидел с трубочкой, осушающей рот, пока его, с помраченным рассудком и распухшего, не обнаружила уборщица. Но во сне старика уборщица не пришла, и он глядел в окно кабинета с пурпурно–желтым узором на стеклах, а во рту становилось все суше и суше всякий раз, когда он пытался пошевелить онемевшими связанными руками…