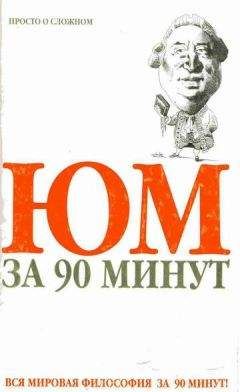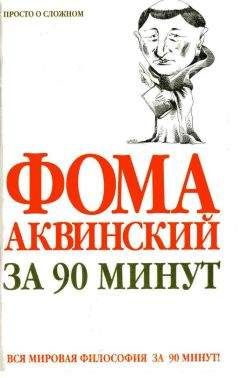Олег Юрьев - Полуостров Жидятин
Начинают дробно дрожать губы и плечи. Мне холодно под семью пограничными одеялами — бесшерстными, серыми, с двумя узкими черными полосами вдоль коротких концов на каждом. Четыре на семь — итого двадцать восемь полос. Вдруг мне кажется: кто-то неслышно заходит в пакгауз с улицы, не зажигает в сенях света, стоит, покачиваясь на носках неопределенным сгущением — выбирает, куда дальше: наверх, к хозяевам… прямо, к Перманенту и Лильке на кухню… или налево, сюда, ко мне. У него лицо, как у волка, черная шляпа и длинная седая борода. Я так и представлял, когда был маленький, еще в коммунальной квартире, до того, как мы обменялись с доплатой, — но там-то коридор длинный-длинный, с тремя поворотами и расширением на месте бывшей комнаты Кириницияниновых, которую не могли решить, кому отдать, и сломали; и когда мама с отчимом уходили на кухню разговаривать с соседями, а Лилька, стулом с распяленным школьным платьем отгородившись от трех сросшихся шаров уличного фонаря и свесив с раскладушки белую лягушечью ногу, спала уже — как убитая — между долгоовальным обеденным столом (всегда накрытым желто-зеленой скатертью в тканых ромбах) и моей затененной (в изголовье буфетом, а в изножье пианино) тахтой, я всегда представлял его, как он отталкивает снизу плечом кем-то (вдруг мной? — обжигающий прочирк в подложечке) неплотно захлопнутую парадную дверь, входит в треугольную прихожую, где лыжи, сундуки и барабанная установка со страшно фосфоресцирующей славянской вязью на главном барабане, потом поворачивает мимо Фишелевых, полуотдельно живущих у выхода, и, светясь глазами, неотвратимо приближается на слегка цокающих когтях по бесконечно бессветному коридору с дальним отсветом кухни в самом конце — мимо всех темных дверей, подчеркнутых светом изнутри, мимо всех смутно лучащихся замочных скважин — мимо Настеньки (это не ласково, а иронически), у которой я украл стеклянный шарик с комода и был страшный скандал, — мимо сумасшедшей (чем — не понимаю) Любови Давыдовны с умирающим (от чего — не знаю) мужем Петуховым, — мимо алкоголика Мишки, который в добела стертом кожаном пальто, доставшемся ему в блокаду, и в навечно заляпанных слякотью гамашах без галош стоит сейчас внизу на Колокольной улице с проще одетыми друзьями, — мимо Рывкиных, у которых единственный на квартиру балкон-лоджия и сын Рафа играет в вокально-инструментальном ансамбле «Русичи», и — наконец — мимо заслуженного малооперного артиста республики Винниченко (я видел, как он танцует в «Докторе Айболите» партию жирафа, выглядывая из плексигласового окошка посередине жирафьей шеи, ломко покачивающейся и сморщивающейся при прыжочках). Все ближе, ближе… — сейчас я услышу его шаги и его дыхание у самой нашей двери. Или это мама идет поглядеть, как мы с Лилькой спим? «Куда тебе грелку, к ногам?»
Подсовывает к ногам тупо обжегшую грелку сквозь прутья кроватной спинки. Помедлив, обходит пространную кровать и осторожно полуложится поверх всех одеял со мною рядом — затылок уперт в железную перекладину, руки перетягивают одна на другую халатные пазухи; ноги в шерстяных рейтузах спущены от середины бедер к полу. «Э, миленький, да тебя всего колотит! Ну ничего, ничего, терпи, казак, атаманом будешь! — завтра мы уже, слава богу, с утречка домой; приедем — моментально врача вызовем, как не фиг делать. Горло-то болит?» Горло не болит. Не надо сглатывать тугие волокнистые слюни — тогда справа не болит. Я хочу посмотреть наверх и назад, на ее лицо — живое, а не в треугольном, бликами заезженном зеркале передо мною на стене, — и устанавливаю голову внутри подушки на самое темя, со сладостным напряжением шейных мышц и туго сводящихся лопаток: подушечьи углы надо мной соединяются, и я не вижу ее волос, надутых газовым светом с моря, и ее будто вырезанного из черной матовой бумаги остального безобъемного профиля: быстрого приподнятого носа, крупных приоткрытых губ и маленького заостренного подбородка. Обваливаюсь — кровать звенит и качает нас с нею, углы подушки снова расходятся. Когда я три года назад ездил в Одессу к двоюродной бабушке Басе, там, в подземном переходе на улице Советской Армии, один еврей вырезал с натуры профили по пятьдесят копеек за пару — правда, сперва на листке, медленно оборачивающемся своим зигзагообразным разрезом вокруг лязгающего ножничного перекрестья, прорезался только один профиль; готовый, он разнимался на два. На четыре, если считать оборотные, отходные, метко планирующие к ногам еврея, в мусорное ведерко из синей заусенчатой пластмассы. Отчим купил в порту три мешка индийского чая (с ними его по возвращении в Ленинград и забрали в заднем дворе «генеральского гастронома» на Невском проспекте, где у него была знакомая товаровед Берта Ильинична, через пару дней умершая от страха на очной ставке в ОБХСС). Он почему-то называл их «цибиками», и на время гощения затарил к двоюродной бабушке Басе на антресоли; та все туда одобрительно поглядывала со своего полосатого кресла под худощавой пальмой, мелко сглатывала зеленоватое бессарабское вино, курила огромную сигару, не помещающуюся в ее стянутый волосатыми морщинами рот, и ругательски ругала Лилькиного мужа, Перманента, хотя никогда его не видела, поскольку за месяц до того не смогла поехать в Ленинград на свадьбу, по толщине и неподвижности. Литвак! говорила она, кашляя: Литвак, тю! Те же литваки, у них же ж поhоловно нито кин сейхл. Двум поросям похлебку не разнесут! Тю! А за себя поhоловно думают целое я тебе дам! Шо ж ты от того hолоштана кровной своей дытиночки не отчиныла, а, Эвгэния? Мама смущенно кивала, а отчим, прищелкивая плетеными сандалетами, ходил по комнате и рассеянно улыбался Басиным антресолям. Он был тоже литвак, но это его не огорчало.
Перманент, отчаявшись насчет «голосов», одним утробно чавкнувшим вжимом переключается на средние волны. По «Маяку» передают «Миллион, миллион, миллион алых роз». Лилька со звоном и теплым ветром вскакивает, быстро-мелко одергивает на мне качающиеся одеяла и бежит. Позапрошлым летом, когда мы здесь первый раз были на даче, эту песню пел перед ларьком «Культтовары. Продукты. Керосин» какой-то худой мужик в майке и чем-то часто запятнанных тренировочных шароварах с вывернутыми карманами. В каждой (несоразмерно остальному телосложению долгой и толстой) руке он держал за горло по бутылке азербайджанского вина «Агдам» и пыля притопывал сапогами в известковых разводах. Его кепка съезжала от этого на глаза, и тогда он дергал назад плешивой головой, как баклан. Время от времени он останавливался, обрывал пение и говорил кому-нибудь проходящему: В етом гамазине, бля буду, продавщица — вылитая Алка Пугачева. Ну бля буду! Затем наклонялся вовнутрь ларька и хрипло шептал: Веронька, красулечка, Алка Пугачева! Ну сделай, роднуля, мине, мальчонке, миньета с проглотом! И тоненько-тоненько смеялся. Пошел на х…, старый пидор, равнодушно отвечала из глубины ларька продавщица Верка. Этот мужик по фамилии Субботин до нашего хозяйского полуидиота Яши служил в автогараже погранзаставы по найму. Через недельник с гаком его арестовали, потому что на воскресном киносеансе в клубе Балтфлота он задушил с заднего ряда сидевшего между мной и хозяйским малым и что-то все время рассказывавшего Костика, сына капитана первого ранга Черезова, дяди Якова начальника по базе ВМФ. Костик высунул язык, заколотил ногами в спинку поехавшего переднего сиденья и умер, а когда сапожники включили свет из-за возмущенных криков сидевших перед нами матросов с «Тридцатилетия Победы», мужик разжал на Костиковой шее свои желтые руки с ракушечными ногтями и сказал: Христа ради, извиняй, пацанчик. Обознался, значит. На всех пальцах у него были нататуированы синеватые перстни, оттуда, наклоняясь, росли седые волосики. С Костиком этим меня за пять минут до сеанса познакомила двоюродная бабушка Циля, вынесшая нам из кассы билеты. С евреями сидеть не буду! сказал Костик, но проходивший мимо капитан первого ранга Черезов отчеканил, не останавливаясь: Ты сын русского офицера, Константин, и будешь сидеть с любым говном, с которым я тебе скажу. Пардон, Цецилия Яковлевна, такая шпана растет, понимаете. И ушел — прижимая обеими руками боковые волосы к неуставно непокрытой голове — по направлению к ларьку. На похоронах в четыре тубы и три кларнета играли «Амурские волны», два матроса на ремнях опустили короткий, обернутый алым сатином гроб в глинистую землю, похожую на сырую халву. Каперанг Черезов в парадной форме с кортиком выстрелил в воздух из пистолета, снял фуражку и закрыл ею — белой изогнутой тульей наружу — лицо. Дядя Яков молча откозырнул и повел меня за руку по узкой, гладкой после дождя и рябеющей после нас дорожке: между одинаковых усеченных пирамидок из светло-красного жидятинского гранита, со свежебагровыми жестяными звездами на верхушках и свежепозолоченными надписями на обращенных к выходу гранях (у калитки я оглянулся и прочитал: Старшина первой статьи Абдулкадыров Ш.Ш. 1908—1940). Бабушка Циля, держась, чтоб не оскользнуться, за дяди Якова китель, боком подшагивала сзади. Еще дальше — Лилька в единственном платье, какое было с собой: синее в белых зигзагах. Наверх, на голые обгорелые плечи в веснушках и родинках, она надела кожаный перманентовский пиджак; сам же Перманент ожидал за оградой, спиной к кладбищу, лицом к морю, где уже наискосок прорезался золотой позвоночник заката, как я в этой связи написал в грустном стихотворении, посланном, по сю пору безответно, в центральную пионерскую газету «Пионерская правда». Яков Маркович до смерти боится мертвых. Поэтому он интересуется духовностью и любит ходить в церковь. Надеется, в случае чего воскресят, иронизируют Бешменчики. В Ленинграде он не может ходить, там все священники капитаны КГБ, а он на идеологической работе, и через два с половиной года подходит его очередь подавать в партию, чтобы его назначили завучем, когда биологичка Ленина Федоровна выйдет на пенсию. Но здесь, в поселке за шлагбаумом, в запредельной глуши, где даже не глушат, настоятель — настоящий деревенский батюшка, простой и милый, но глубокий; к нему даже из Ленинграда ездят многие интеллигентные женщины причащаться святых тайн или что-то в этом роде. Когда мы приехали на увеличенные больничным каникулы (было как раз воскресенье, семнадцатое), они толстоногой толкливой стайкой выскакнули поперед нас из автобуса — в изумрудных пальто с полуседыми лисьими воротниками, в черно-красных павловопосадских платках, свободно повязанных вокруг шаровидных причесок, — и, подворачиваясь, побежали по твердому снегу к церкви, маленькой, квадратной, с одной-единственной обколупанной луковкой. Отец Георгий уже стоял в дверях, набросив на рясу стеганый желтый полушубок, помахивал из-под него рукой и, добродушно улыбаясь, говорил кому-то вовнутрь церкви: Глянь, Семеновна, а вон и епархия пархатая моя притаранилась во благовременье. Ну, стало-ть, перекурим — и начнем благословясь…