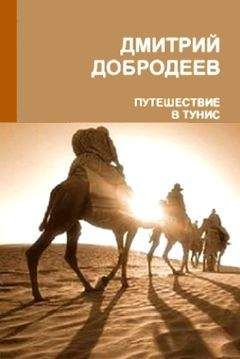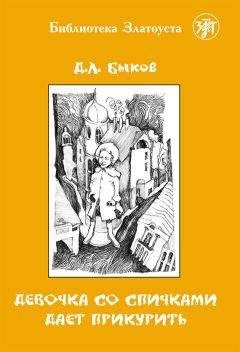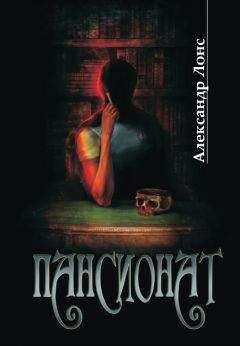Дмитрий Добродеев - Возвращение в Союз
— Прощайте, господа! — они обнялись. Полковник обернулся: «А вы откуда, поручик Кебич? И почему в кальсонах?»
— Я? — я… замялся.
— Ну раз пришли, то действуйте. Вон там лежит экипировка корнета Елагина, убитого во вторник… Корнет был наш любимец… Пойдите в уборную, переоденьтесь. Мы выступаем.
Дрожа, обматывал я портянкой ногу, затем надел порты, косоворотку, старую шинель. В карман засунул черный браунинг, чтобы последний патрон — себе…
— Поручик, вы замыкаете цепочку… Пошли!
Спустились по лестнице. Все пятеро — одеты под пролетариев: в ушанках, кепках и сапогах. На лестнице промозгло, неуютно. Октябрьский ветер дул сквозь выбитые стекла входной двери. В подъезде задержались. Полковник Уфимцев просунул большую седую голову в кепчонке и осмотрелся: его закрученные сивые усы трепало на ветру…
На нас дохнуло сыростью и дымом, как в те давно забытые года, когда в усадьбе жгли листья… Однако — Москва, октябрь 19-го.
— Вперед! — мы выбежали и сразу попали под выстрелы… Чекисты и матросы вели уверенный огонь из дома, что напротив. Полковник схватился за голову и лег на мостовой… Сжимая отверстие в боку, рядом с ним присел капитан Ермолин. Я судорожно рванул назад в подъезд, за мною юнкер Мальчикаев.
— Что делать? Отсюда нас выкурят теперь уж все равно. — Я знаю, я точно знаю, — прошептал Мальчикаев, — здесь есть черный ход. Он повернул ко мне свое курносое, с веснушками лицо, — пойдемте, поручик, я покажу вам…
Прошли. Под лестницей загаженной, вторая дверь — во двор. Неметено, обрывки воззваний. Поспешным шагом — в конец двора. Там примостились под поленицей дров. Пожухлая октябрьская трава торчала из-под снега.
— Вы знаете, — промолвил Мальчикаев, — когда мы разобьем большевиков и всю демократическую сволочь, то будет на Руси счастливый век… Дожить бы только… закуривайте.
— В последнее время, — продолжал юнкер, закурив, — мне часто снится мама. Она заходит в мою детскую, в именье на Орловщине, садится рядом с моей кроваткой и гладит мне голову… К чему бы это?
— Поручик, — заключил Мальчикаев, — если меня убьют, то передайте этот конверт моей знакомой, Тате Воробьевой. Здесь, на конверте, — адрес. Тата — наша связная.
— О-кей, зачем же так обреченно? — я закашлялся. В московского двора. Куда ни кинь — обшарпанные стены и окна, в которых вымерла вся жизнь. — Ну хватит, наотдыхались. Задание не ждет, вперед! — мы вышли сквозь дворницкую на Неглинную: была пуста. Вдали, у Трубной, разрозненно стреляли.
По одному решили перебегать. Мальчикаев перекрестился, стремительно рванул вперед. На самой на середине улицы раздался выстрел. Он спотыкнулся на ходу и рухнул — руками нараспашку. Маленький юнкер был убит.
Настал и мой черед. Я начал медленный разгон. Противник молчал. Подбежал к убитому кадету и сунул руку ему за пазуху: конверт! Неловко подпрыгивая в кирзовых сапогах, поскакал к дому напротив. Защелкали винтовки. Одна из пуль задела шею. Однако через секунду был вне досягаемости — в подворотне.
Спрятал конверт на груди. Размазывая пот и слезы по лицу, залез в дворницкую дома номер 5 и натянул там полуистлевший полушубок татарина Назима. На голову — вонючий треух, и в этом обличье вышел на улицу. Теперь все изменилось. Меня не замечали, и незамеченным я вышел из зоны боев.
— Куда теперь? По адресу подруги… Какие страшные, холодные дома… Прохожие шарахались. Чу, вот и дом — Петровка, 18. Вошел в подъезд, поднялся, постучал. Открыла девушка — дрожащая, глаза ужасно грустные… Коса до пояса, блондинка.
— Вы кто? — Вам тут письмо от Саши… — Входите. Вошел, снял треух. Квартира — добротная, московская. По стенам — маски африканцев и папуасов. Профессор Воробьев — этнограф? — Хотите чаю? — Не откажусь. — И начал пить вприкуску с сахаром.
— Что Саша?
— О, он хорошо… его отправили с отрядом на юг, под Серпухов…
— Откуда вы, поручик?
— Я? Я как бы это, я гость на этой территории…
— Послушайте, поручик, — ее лицо внезапно посерьезнело. — К вам просьба. Не врите.
Я заглянул в ее глаза и понял, что она все знает. Всю правду — про Сашу и про меня…
— Чумазый мальчик, — сказала она, — вы ранены. Позвольте вашу руку… — стянула с меня рубаху и обнажила царапину на шее. — Минутку…
Я вскрикнул от йода, однако быстро пришел в себя. — Дa, я вас вспомнила. Вы — господин Красавцев. Вы — мистик и поэт. Я помню — вы были у покойного отца еще в 15 году… Вы нам прочли поэму о людях-масках и о непостоянстве форм…
— Да? — недоверчиво взглянул в трюмо напротив, — какая-то смурная физиономия… и почему Красавцев? Я Кебич… — Ну а меня вы вспомнили? — Да, да, да, все вспомнил! — я притянул ее к себе, обнял до хруста и положил на кожаный диванчик.
— Ах Тата, Таточка… твои прозрачные зеленые глаза… мы просто обязаны… совершить акт любви… назло всем экспериментам над нашей свободной волей… Какая страсть, какая обреченная любовь в октябрьской Москве, в разгар гражданки… необходимый долг на этой остановке бесконечного пути… любил и плакал.
Соленая капля пота скатилась на девичью грудь, на крестик… Силы оставили нас. — Минутку, — сказала Тата Воробьева, — вы полежите, отдохните, я скоро… я только посмотрю, что там, на улице…
Завернувшись в плед, я задремал на кожаном диванчике, в уютном старом кабинете…
…Короткий сон был прерван стуком в дверь. «Вы спите?» Вошел, кругленький, с бородкой клинышком, профессор Воробьев: «Ах, вы не спите, голубчик, Геннадий Сергеевич… а я, признаться, думал… Да, кстати, я вашу просьбу выполнил. Прошу одеться… извозчик ждет…»
— Геннадий Сергеевич? Что еще за чушь, — я застегнул рубашку, намотал портянки. Профессор был возбужден: «Гюрджиев ждет вас. Сейчас — самое время с ним побеседовать… В январе он перебирается в Петербург: там у него объявился богатый покровитель при дворе… ах, впрочем, он сам расскажет…»
— Какой сейчас месяц, кстати? Профессор как-то странно взглянул: «Извольте, сударь, — ноябрь 15-го…»
ПРОБЛЕСКИ ИСТИНЫ
Он посадил меня в коляску с крытым верхом. Снег, смешанный с дождем, нещадно хлестал по крыше. Извозчик надвинул шляпу по-самы уши, ругнул матом кобылу, и мы поехали. Улицы Москвы были довольно оживленны. Были даже бабы в цветных платках, прохожие и масса зонтиков.
— Позвольте, какой сейчас год? — задал я снова вопрос.
— 15-й, милостисдарь. А что?
— И куда мы направляемся?
— Ах право, голубчик, вы удивляете меня… На днях, увидев постановку «Борьба магов», вы изъявили желание увидеть лично господина Гюрджиева.
— Я? Изъявил? Ну-ну…
Однако что-либо менять было поздно. По Тверской-Ямской, через Каретный ряд, через Калужскую заставу, мы выехали на
окраину Первопрестольной. Крестьяне, бабы, господа…. и на
заборах — плакаты «на борьбу с тевтонским зверем»…
Профессор продолжал: «Мы, русские, необычайно одарены во всем… Мы обладаем живым воображеньем, пылкостью мечтаний, а также глубоким метафизическим чутьем… Нас трудно удивить. Однако господин Гюрджиев нас превзошел. Он знает, что… я даже боюсь это произнести..» — профессор заозирался… Вокруг пошли заборы, кусты и дачные строенья… пегая лошаденка упорно месила глину.
Чу, вот и он! — огромный дачный дом, угрюмый, двухэтажный. Подгнивший покосившийся забор и запах старой мокрой древесины, который в России я узнавал всегда. Залаяла собака.
— Кто там? — горбатый взъерошенный мужик явился на крыльце.
— Свои! — ответил профессор веселеньким фальцетом. — Скажите господину Гюрджиеву, что здесь профессор Воробьев и композитор Садовский.
— Ну ладно, заходите… — Горбун открыл калитку, кряхтя, повел нас в дом. В сенях — стряхнули мокрые пальто, повесили на гвоздике. Собака, величиной с теленка, обнюхала мои колени… мурашки поползли по чреслам.
Раздвинув простыню и пару занюханных ковров, которые служили ширмой, мы очутились в комнате хозяина. Курились благовония на медных плошках. Коврами покрыты были не только стены, но и потолок… горели свечи, и в этом прокуренном, закрытом пространстве лежал на шелковых подушках человек — с закрученными черными усами, в халате, феске и курил кальян. Глаза его, навыкате и черные как ночь, пронзительно смотрели на меня.
— Садитесь, господин Садовский, — он показал на коврик рядом с собой.
— Опять Садовский! — я был раздражен, однако сел покорно, стараясь не глядеть в безумные глаза гипнотизера.
— Не будем терять ни минуты! — сказал Гюрджиев с резким кавказским акцентом. — Зачем пришли?
Профессор Воробьев заверещал: «Мой друг, Иван Сергеевич Садовский, хотел бы получить ответ на извечный русский вопрос: «В чем смысл жизни?» Если таковой вообще возможно дать, разумеется».
Гюрджиев захохотал. Откинув кальян, схватился за живот, задрыгал ногами в больших турецких шлепанцах… Однако глаза его остались серьезны и даже печальны.