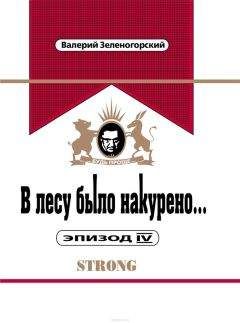Валерий Зеленогорский - В лесу было накурено... Эпизод II
Я ответил, что разговаривали о всякой ерунде – девушках, книгах и спорте, а о евреях мы не говорили, мы ими были. Он еще слегка подергался: свидетелей нашего разговора с парнем не было, нехитрый вывод напрашивался, что он сам рассказал это другому старлею из Комитета Глубокого Бурения. Я написал все это по его просьбе, но под пытками товарища не сдал и ушел героем чистить унитаз начальнику штаба.
Следующая встреча с ними была после дембеля. Меня вызвали в военкомат для проверки документов. Я понял, что шоу продолжается: пришел какой-то капитан, изобразил, что что-то исправил, и оставил меня с серым, незаметным человеком, который опять завел канитель про того парня. Но я уже знал от его брата, что он не парится в застенках, а служит в ракетных войсках с допуском – значит, ничего у них на нас нет, и опять я прикинулся дураком. Он мне ногти не вырывал, светом и газом не пытал, и мы разошлись, как в урне два окурка. Через пару месяцев мне на работу позвонил мужской голос с характерной интонацией человека, которому нельзя отказать. Он сказал, что мы должны встретиться завтра, где мне будет удобно, – я назначил встречу возле памятника В.И. Ленину, посчитав, что это хорошо меня характеризует. «Как я вас узнаю?» – спросил я. «Я буду в шапке». Была зима, жил я не на экваторе, и данная примета для меня не была достаточной для идентификации резидента. Ответ был резким, как удар хлыста. «Я вас узнаю», – сказал он, и я понял, что у них длинные руки. Я пришел ко времени, не нервничал, понимая, что у них такая работа. В городе, где я жил, не было ядерных объектов, потенциальные террористы были в лице студентов из Палестины, учившихся в местном мединституте, и поэтому под зорким орлиным глазом органов были несчастные евреи, считающиеся ненадежными, т.е. пятой колонной.
Он представился ст. лейтенантом Сорокиным, и я увидел аккуратного молодого человека в югославской дубленке, ондатровой шапке, и только тогда я понял все про шапку – таких шапок в городе было 100. Пять – в обкоме, одна – у народного артиста СССР, звезды академического театра, играющего все роли от Ричарда III до генерала Карбышева; он очень художественно замерзал на родной сцене два-три раза в месяц, поэтому шапка была ему необходима, остальные пыжиковые шапки делились равными долями между комитетчиками и торгашами. Начал он издалека: мы знаем вас как лояльного и порядочного человека, знаем, что ваша теща (она была прокурором) – настоящий советский человек, тесть тоже у меня был не промах – герой войны, партизан, соратник Петра Машерова, руководителя Белоруссии в то время, семья у вас хорошая, но Родину надо защищать ежедневно. Враг не дремлет, он хитер и коварен. Он постоянно ищет бреши в нашей обороне! Он замолчал, и я понял, что должен ответить, что готов заткнуть собой брешь на границе. Я промолчал, и он перешел на международную обстановку, спросил, как я отношусь к режиму Пиночета, утопившему в крови зарождавшийся социализм Сальвадора Альенде, я ответил, что осуждаю кровавую клику Пиночета и вечерами пою песни Виктора О’ Хары (чилийский певец, погибший на стадионе в Сантьяго). После моего заявления вопросы о Конго, Мозамбике и Республике Того, где шла борьба за банановый социализм, были лишними. Перешли на мою жизнь – Сорокин знал ее неплохо. Зарплата, родинка на моем половом члене – все было ему известно. Он намекнул, что помощь ему, кроме всего, небескорыстна – будут платить тридцать рублей ежемесячно, деньги маленькие, но не лишние. Я хотел ему сказать, что тридцать рублей – это библейская стоимость смертного греха, но не стал, чтобы не разоружаться перед идеологическим противником. Потом он намекнул на мой карьерный рост с их помощью. Я знал, что это не в их силах, т. к. я был заведующим сектором, а до пенсии своего начальника отдела нужно было потерпеть 22 года. Могли ли они убить его для моей вербовки, я не знаю. Прошло около часа, я замерз, Сорокин сказал, что на сегодня хватит и мне нужно подумать и дать ответ. Потом он сказал сурово, что о нашем разговоре не должен знать никто. Мой ответ его не обрадовал: я сказал, что рассказал жене все, т. к. врать в семье у нас не принято. Он посмотрел на меня с сожалением и повторил, что я с этой минуты должен держать язык за зубами; язык отдельно, и зубы отдельно. Я понял и пошел в детский сад за дочкой.
Следующее наше свидание состоялось в гостинице, где у них были служебные номера для работы с агентами и для своих низменных целей – пьянок и гулянок. Номерок был стандартный, пыльный, его в целях конспирации убирали редко – боялись внедрения вражеской агентуры и закладок аппаратуры слежения. Сорокин поздравил меня с тем, что в управлении меня считают перспективным направлением и сам полковник, начальник управления, дал добро на проведение операции. Я ошалел и подумал: пусть полковник забирает назад свое добро и оставит меня в покое со всем моим говном. Сорокин, поняв мое молчание как согласие, стал рассказывать мне план моей операции. Они хотели, чтобы я подал документы на выезд в Израиль, но до Израиля не должен доехать, потом США, внедрение в эмигрантское отребье и через три-четыре года – триумфальное возвращение на Родину по красной дорожке Внуковского аэродрома с развязавшимся шнурком, как у Гагарина. Заключительным аккордом станет книга, разоблачающая ЦРУ и МОССАД, о крупномасштабных операциях по развалу СССР с помощью еврейской эмиграции. Книга уже была написана двумя мэтрами советской публицистики – А. Чаковским и Генрихом Боровиком и ждала моего часа. Название книги было нетривиальное – «Я выбрал свободу». Я ответил сразу, что я не хочу этого, и объяснил почему:
Я не хочу в Израиль, Америку и Канаду.
У меня больные родители, русская жена и маленький ребенок.
Я не знаю ни одного иностранного языка, и я просто боюсь.
Мои доводы были признаны смехотворными, и я был отправлен думать. «Крепко подумайте, – сказал Сорокин. – Идите!» Я пошел вон. Дело приобрело нешуточный оборот, и я пошел к своему папе как к мудрому человеку. Я рассказал ему все эти мудовые рыдания, а он мне ответил сразу, не раздумывая: «Пошли их на хуй! Не 37-й год!»
Мне стало легче, и через неделю в четверг я пришел в гостиницу, постучал, Сорокин был в форме капитана СА с петлицами танкистов. Зачем ему был нужен этот маскарад, я не понял.
Я, заикаясь от волнения, сказал «Нет» и четко пояснил свое решение:
– жена не хочет жить на чужбине;
– я, единственный из класса, не освоил азбуку Морзе в школе на военной подготовке;
– разговариваю во сне, пыток не выдержу, и даже один звонок из органов заставит меня раскрыть все явки и пароли.
После того как я сказал, что стрелять по-македонски, с двух рук, не умею, Сорокин остановил мой словесный поток и сказал, что это очень плохо, мне будет трудно жить, органы ничего не забывают, мы с ним не знакомы и что в моем личном деле остается на всю жизнь запись-приговор «отказался от сотрудничества».
Много лет спустя, общаясь со своими ребятами на юбилее школы, где мы учились, я рассказал им за столом эту историю, и оказалось, что из десяти человек нашей компании такие предложения получили восемь. Трое из них живут в Канаде, четверо – в Америке, один умер, а я живу в Москве. Я до сих пор не знаю, кто из четверых «американцев» является агентом влияния.
Через год после прекращения работы с КГБ я ехал в командировку в Москву в вагоне СВ; попутчиком моим был Сорокин, который представился мне Нечипоруком, работающим в тресте сельхозмашин.
Вот такой выдумщик, е... т... мать!
В августе 91-го...
С.С. встретил революцию 91-го года в цековском пансионате, где отдыхал без семьи. Пансионат был не шик-блеск, но все-таки горный воздух и жемчужные ванны в сочетании с легкими амурными приключениями в лице заведующей производством столовой. Любовь была скорой, место удивительное, разделочный стол в цехе холодных закусок. Утром под «Лебединое озеро» он понял, что малина заканчивается, но судьбы своей он не страшился. Путч ему не нравился, фигуранты с обеих сторон тоже не брали за живое. В Москву он решил не ехать – лучше посмотреть на бой со стороны. Взял билет на 21-е, понимая, что в России революция не может быть больше трех дней, народ устает, если, не дай бог, больше трех дней, тогда начнется гражданская война на десятки лет.
Утром, прилетев в Москву, С.С. узнал о новой победе демократии, не удивился, поехал в центр посмотреть на ликующие народные массы и на новых триумфаторов. Москвичи радовались сильно, а вот местные, где был на курорте С.С., как-то не очень – не заметили они революции. «Надо отметить», – подумал С.С. и зашел на М. Дмитровку в кафе, где было чисто и наливали. В очереди за водкой были замечены два сокола демократии: писатель, бичевавший сатанинскую власть в журнале «Огонек», и драматург, получивший Ленинскую премию. Они были убежденными поборниками новой жизни и толкали Ельцина во власть изо всех сил. С.С. Ельцина тоже не любил, считая их всех одного поля ягодами, но с демократами сел, чтобы выяснить, с кем теперь мастера культуры. Правда, ответ он знал: с победителями всегда и во все времена. Выпили водки, бутерброды с красной рыбой отвергли, взяли с белой – а как же! Жалко, что не было ничего с триколором, вот бы было символично. Выпили и стали доебывать С.С.: где он был в эти дни, по какую сторону баррикад, где он был в момент истины? Понимая, что они не отстанут, он осторожно высказался, что нигде не был, а если бы был, то не пошел. Демократы стали кричать, что из-за равнодушия таких, как он, происходят все мерзости на свете. С.С., жуя бутерброд, ответил, что все происходит по воле божьей и его равнодушие здесь ни при чем, он – государственник, а власть от бога, а не от энтузиазма народных масс. Демократы завыли в голос и вообще испортили аппетит С.С. Они требовали определиться, с кем он, и утомили С.С. вконец. Резко попрощавшись, они вызвали машину из гаража Верховного Совета и поехали в Переделкино писать воспоминания о трех роковых «окаянных» днях. С.С. допил водку и поехал в Зачатьевский переулок к женщине-баскетболистке, которая иногда с отвращением и негодованием одаривала его любовью с медалями спортивной славы на голое тело: любил С.С. любовные игры с государственными символами. Но вечер не задался – баскетболистка была на баррикадах, только вернулась с Манежной. Глаза ее лихорадочно блестели, и ни о какой любви с медалями не могло быть и речи. Она тоже спросила С.С., где он был три дня. С.С. оделся и понял, что все сошли с ума, и стал молить бога, чтобы все поскорей устаканилось. Возле «Московских новостей» стоял народ и громил коммуняк всеми словами, обзывая их по-всякому, особенно горячились патриоты, которые решили заодно рассчитаться с еврейской буржуазией и жидовствующими большевиками. Понимание в этом вопросе было достигнуто, и толпа рвалась по адресу, где якобы жил Каганович, чтобы повесить его на Красной площади. С.С. решил не трогать Кагановича, а вместе с ним Дзержинского, К. Маркса и прочих памятников. Домой идти не хотелось, поэтому он пошел к своему товарищу по Комитету трудовых ресурсов, жившему на Юго-Западе в Олимпийской деревне. Когда-то он имел роман с его женой и любил посещать ее в период, когда муж проводил брифинги по трудовым ресурсам на местах их дислокации, т. е. ездил в командировки. Жена коллеги была хороша собой, от мужа уже устала; он был какой-то пресный, работу любил, а дома только спал и все считал, сколько она тратит в неделю, копил на «Жигули» и поездку в капстрану. С.С. хотел сдобную жену друга, и все было бы хорошо, да вот собака у них была противная. Маленькая такая шавка, то ли пудель, то ли болонка с бантиком на шее. С.С. очень хотел бантик потуже затянуть, но не стал – хозяйка очень любила свою Каштанку за характер добрый и внешнее сходство. Причина нелюбви С.С. к шавке имелась: в период близости она находилась в комнате, хозяйка жалела ее и не запирала в другой комнате, чтобы она не выла. С.С. не любил собак вообще, а эту просто ненавидел. Однажды, когда С. С. увлеченно работал с хозяйкой, лежащей на спине, шавка вцепилась ему в зад и чуть не отгрызла ему яйцо непонятно почему. Он долго потом анализировал, что бы это значило: или собака хотела помочь хозяйке доставить удовольствие, или... собачья душа – потемки. Потом, читая толстую книгу Брема о зоопсихологии, он понял, что это был акт собачьей сублимации. Она хотела быть третьей, а С.С. был человек чистый и зоофилией не страдал. Сукой оказалась эта собака, тварью.