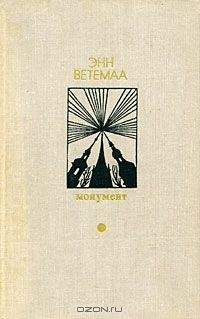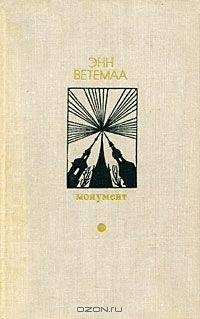Энн Ветемаа - Пришелец
Выпивохи-грузчики, спекулянты, сомнительные женщины и не менее сомнительные мужчины — наш молодой человек смотрел на них с тем же доброжелательством, с той же любознательностью, как по средам в музее на пещерных людей из папье-маше (помнится, ребенок был из бутылочной пробки). От одежды завсегдатаев поднимался парок (да и сами они постоянно пребывали под парами), в их хмельных головах возникали смутные, расплывчатые мысли, размытые, туманные, как и все вокруг. Почему они толкутся здесь? Что их привлекает?
Молодой человек сидел, хмуря брови, пытался понять этих людей и их мысли, скорее всего, сам не замечая, что собственная его персона возбуждает интерес в этом далеко не фешенебельном заведении. Например, на него косо поглядывал малый с нервно подергивающейся щекой. Его синий галстук с кораллово-красной обезьянкой совсем не сочетался с изрядно поношенным черным костюмом. Допустим, малый встал, развинченной походкой пересек зал и сел, не спросив позволения, за столик молодого человека. Надо полагать, лицо малого было в оранжевых прыщиках, в одном кармане у него лежал кастет, а в другом зажигалка с обнажающейся девицей. И эту зажигалку он с приторной улыбочкой предложил купить молодому человеку.
— Я не курю. К сожалению, — сказал тот, как бы извиняясь.
— Значит, к сожалению, — усмехнулся владелец зажигалки. Его рука скользнула в карман и стала поглаживать холодный металл кастета. — Значит, к сожалению, — повторил он еще раз и вдруг ощерил в улыбке зубы, сверкнувшие белизной и неожиданно преобразившие его. — Может, еще приохотишься?
— Едва ли, — вежливо сказал молодой человек. — К тому же у нас осуждается нелегальная торговля.
— Все-то ты знаешь!..
Малый встал и двинулся к своему столу — обратно он шел с явно подчерк-нутой беспечностью. Затем что-то сказал своим дружкам, и они расхохотались — громко и раскатисто, забавно держась за животики, будто опасаясь надорваться. И вдруг, словно по команде, все разом умолкли и уставились на молодого человека, который, растерянно улыбаясь, имитируя жестами курение и изображая кашель, попытался еще раз подтвердить — никак он не сможет приохотиться к табаку. Парни за дальним столом сделали вид, будто им ни малейшего дела до этого нет: с вызывающим безразличием разглядывали стену над нашим героем, где вполне могла бы висеть дешевенькая ре-продукция батальной сцены из отдаленного прошлого: под крики "ура!" солдаты со штыками наперевес ринулись на приступ, справа редут, слева лошадь со вспоротым картечью брюхом. Парни, наглядевшись на эту потемневшую, покрытую слоем копоти репродукцию, едва ли способную возбудить чей-нибудь аппетит, снова с завидным единодушием зашлись в смехе и, как прежде, схватились за животы.
Молодому человеку показалось, что они позволяют себе лишнее: он не заслужил столь бурного злорадства. Дружелюбная улыбка исчезла с его уст, он нахмурился и явно подумывал об уходе. Но, вероятно, и это намерение учли: к его столику уже подходила подвыпившая девица в слишком длинном плаще, которой обладатель зажигалки в черном костюме успел что-то шепнуть на ухо.
— Я такая несчастная, я такая бедная, — сказала девица с маленьким, как у хорька, личиком и поспешно опустилась на стул рядом с молодым человеком. — Ox, какая я несчастная, ox, какая я бедная, — повторила она жалобно, и даже молодой человек заметил, что она еле сдерживает смех. — И моя старая мамочка тоже несчастная и очень бедная, — объявила она теперь уже совсем громко. Настолько громко, что три парня, наблюдавшие за представлением с другого конца зала, как заведенные схватились за животики. На что девица, обернувшись к ним, показала язык, изобразила на лице обиду и, словно из сочувствия, положила на колено молодому человеку руку — красную, с вросшими в кожу ногтями.
— Может, господин ссудит мне немножко в долг. На некоторое время. А я готова услужить господину… Да хоть сейчас, только господину придется позаботиться о меблированных комнатах, — хихикнула девица, тряхнув патлатой головой и склонившись к молодому человеку. Он ощутил кисловато-терпкий запах неухоженного тела и перехватил ее взгляд, чем-то смахивавший на собачий. И если уж зашел разговор о собачьем взгляде, то это был взгляд той собаки, которую слишком часто по любому поводу и без конца били, пинали, окатывали кипятком из кухонного окна и довели до такого состояния, когда она должна, просто не может иначе, хватать прохожих за лодыжки, выскочив из-под ворот скрытно, без лая, сморщив нос и выкатив потемневшие от злости глаза.
— Проси на две банки! — выкрикнул кто-то из троицы.
— Если можно… на две бутылки… — Тут уж девица рассмеялась громко, не таясь, и дурашливо скосила глаза, очевидно, пытаясь выглядеть еще невзрачней, чем на самом деле.
— Вы знаете ребят, что сидят возле двери? — спросил молодой человек, огорошенный происходящим.
— Тот, с потрясным галстуком, — Станционный Граф. Обычно он бывает в белом фраке.
Впрочем, последнюю фразу она, пожалуй, не произносила, и в таком случае на владельце зажигалки был длинный пиджак из белой тонкошерстной ткани, с разрезом на спине. И, вполне возможно, белые перчатки на руках.
— Хорошо. Я дам вам взаймы, — вымолвил наконец наш молодой человек. Он окинул девицу печальным, весьма задумчивым взглядом, заметив при этом, что она страдает от недоедания. — Вообще-то вам гораздо разумнее потратить эти деньги на еду, — высказал он пожелание, — на еду и витамины. Алкоголь дает совсем не те калории. К тому же он толкает к анархизму и наносит вред нашему процветающему обществу.
— А не пошел бы ты!.. — пронзительно крикнула девица на всю столовку. Долгий, задумчиво-печальный и в то же время холодно-изучающий взгляд молодого человека показался ей невиданным доселе оскорблением. — Ребята, он пристает! Граф, он меня лапает!
Три стула с треском отодвинулись, и трое парней с размеренной медлительностью проследовали через зал. Впереди всех обладатель зажигалки в белом фраке. Возможно, на его лице не было прыщиков, возможно, были белесые усики и прямой, словно ножом прорезанный, пробор. Девица вскочила на ноги, не в силах более сдерживаться:
— Ребята, всыпьте ему! Он шпик! Он педик! Он…
Тут, по всей вероятности, молодому человеку стало не до шуток. Граф подошел к нему совсем близко, настолько близко, что молодой человек разглядел все поры у него на носу: маленькие черные точечки, точно такие, какие мы видим на увеличенных газетных снимках, если смотреть на них вблизи; по-видимому, он также ощутил запах вина, желчи и желудочного сока, поскольку Граф, весь, как есть, в белом, дышал с хрипом прямо ему в лицо. Так они мерили друг друга взглядами, покуда находящийся под нашим пристальным вниманием молодой человек не прервал молчание и не заметил тихо, по-дружески:
— Весьма интересно… Я только что вычитал в трудах по психологии Вильгельма Вундта, что зрачки у сильно рассерженного человека превращаются в точечки. Теперь я вижу — так оно и есть. Не хотите ли удостовериться, взглянув в зеркало? Но, может быть, вы прежде представитесь?
И снова наступило молчание, более продолжительное, чем прежде, — странное, глупое молчание.
— Он же идиот. Чокнутых я не бью, — произнес наконец Граф и как-то нерасчетливо и резко повернулся кругом. Так резко, что каблук правого ботинка прочертил на затоптанном полу самую настоящую, совершеннейшую окружность. Несколько разочарованно за ним последовали другие, причем один из дружков, наголо обритый, прихватил с собой сверкавший белизной шелковый цилиндр Графа, о котором мы забыли упомянуть в своем повествовании и который Граф тоже забыл.
— Ах, да! Вы хотели получить небольшой заем… — снова обратился к девице молодой человек. Он достал бумажник и протянул ей две-три ассигнации. — Ну что такое?.. Вы плачете! — в испуге произнес он.
И в самом деле, эта кисловато пахнущая девушка плакала буквально навзрыд. Слезы, дождь, платформы с каменным углем, с одним лишь углем, будка стрелочника с пеларгонией на подоконнике, под дождем, под дождем.
— Пошел ты в болото! — выпалила девица в ярости (почему бы это?) и, скомкав в кулачке ассигнации, бросилась вон из столовой.
Вскоре и наш молодой человек вышел на улицу. Вышел под частый, мелкий дождик поздней осени. Под станционные огни, гудки паровозов, в мокрые объятия железнодорожного ноября, горько отдающего копотью. Молодой человек поднял воротник — возле платформы всегда так дует — и зашагал к дому.
Он шел мимо товарных складов; в полусумерках они казались приземистыми и бесконечно длинными. Тут и там мерцали фонарики: ими пользовались кладовщики в больших брезентовых фартуках. Они то открывали, то снова закрывали громадные ворота, сквозь которые подавали в авторефрижераторы свиные туши, ящики, бочки, тряпичные тюки — чего только не показывалось в открытые проемы. От свиных рыл веяло блаженным покоем. Тачки, тележки, фуры, катящиеся бочки гремели по каменной мостовой, масляные пятна на лужах переливались в причудливом боковом свете, а отражавшиеся в них огни наводили на мысль о колодезной глубине. Затем пакгаузы остались позади, и вдоль железнодорожных путей, тесня их, потянулись штабеля бревен. На стрелках вздыхал усталый паровоз и выпускал из чрева пар, словно расставаясь с душой.