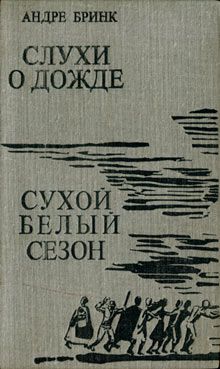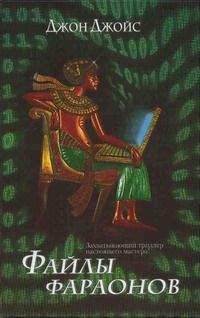Андре Бринк - Сухой белый сезон
Девушка с черными волосами. Девушка с фотокарточки, сделанной на паспорт. Даже крупнозернистая фотография не могла теперь обмануть меня. Это она, Мелани Брувер. Рядом с ней мужчина средних лет. Это Бен.
Не тот Бен, каким я знал его по университету. Не замкнутый, но сдержанный. Уравновешенный человек, живущий в мире с собой и всем, что его окружает. Не то чтобы он был этаким потупившим очи долу скромником или ханжой, с презрением воспринимавшим выходки своих однолеток. Он никогда не был заводилой. Ни разу в жизни я не видел его, например, пьяным, хотя сказать, чтобы он чуждался выпить бокал-другой, тоже никто не мог. А занимался он здорово, этого у него не отнимешь. Может, это еще и потому, что жил он единственно на скромные денежные переводы от родителей и просто не мог себе позволить огорчить их. Помнится, я как-то видел его на стадионе. Матч по регби между университетскими командами. А он с учебником! Ну таймы еще он высиживал — пел и бесновался вместе со всеми. А в перерывах сидел, уткнувшись в книгу, тут ему хоть трава не расти. И если он чего-то недоучил, так пусть в комнате хоть на головах ходят, он сидит, не оторвется от учебника. И в спортсменах никогда не ходил, хотя не раз выигрывал в теннис сет-другой, поражая соперника неожиданной скоростью и техникой. А вот когда шли отборочные матчи в университетскую команду, он неизменно проигрывал. И складывалось впечатление, что делает он это намеренно, с целью избежать всяких поступков, обязывающих, что ли; ведь в обычных товарищеских встречах он сплошь и рядом выигрывал у ведущих игроков. А в тех редких случаях, когда ему как запасному приходилось все-таки выходить на поле, он просто изумлял всех. Особенно это бросалось в глаза в матчах, когда на карту действительно ставился престиж команды, за которую он играл. Тут уж он отражал самые немыслимые удары. А когда наступала пора снова собирать команду курса или факультета, Бен Дютуа проигрывал без борьбы. Он старался всегда оставаться в тени.
По-настоящему он любил только шахматы. Было бы преувеличением называть его блестящим игроком, но в шахматы он почти всегда побеждал благодаря целеустремленности, педантичности и упорству, с которыми проводил свой план. В других, более зримых, что ли, областях студенческой жизни, на собраниях или других сборищах, его словно и видно не было, если не считать редких и никогда не предсказуемых вспышек этого странного парня. Тут дело в том, что он все принимал всерьез. Похоже, он вообще чурался всякого общества, не зря же кто неизменно отказывался от выборов в студенческий совет, так это Бен Дютуа. Но уж если он решался сказать что-нибудь на людях, то говорил искренне и убежденно, так, что его слушали. На старших курсах он и вовсе превратился в неизменного советчика по самым что ни на есть интимным делам. Даже девушки ходили к нему со своими печалями. Я до сих пор забыть не могу той зависти, что ли, к его авторитету у них. Да все мы, вместе взятые, этакие специалисты насчет дамского пола, ничего не стоили со всеми своими ухищрениями против одной этой его, как бы извиняющейся улыбки, очарования которой он и сам, казалось, не понимал. И вместо того, чтобы хватать что можно, он, подобно добродушному щенку, спокойно терпел, как у него отбирают самые лакомые куски. А разобраться, так человеку и в голову, похоже, не приходило, что он сам себя обделяет.
Только один-единственный раз на моей памяти я уловил, будто в нем промелькнуло нечто другое, что-то явно несвойственное ему, человеку, взявшему за правило держаться в тени. Это случилось на третьем курсе, на лекции по истории, когда нашего профессора, взявшего академический отпуск, целый семестр замещал какой-то тип. Мы не выносили его учительских замашек, и дисциплина скоро стала целой проблемой. В тот день он засек меня, когда я пустил бумажного голубя, и тут же — просто озверел человек — велел мне выйти вон. На том бы все и кончилось, не пробудись вдруг Бен и не заяви, — куда девалась только его вечная летаргия — что он протестует против наказания одного, виноваты все одинаково.
Когда же преподаватель наотрез отказался слушать его, Бен составил петицию и, потратив субботу и воскресенье на сбор подписей, угрожал бойкотом занятий, пока не будут принесены извинения нашему курсу. В понедельник он вручил ее историку. Тот прочел, побелел от злости и изорвал в клочки. И тут Бен доказал, что бойкот не пустая угроза, и вывел за собой из аудитории весь курс. В нынешнюю эпоху самоуправления и студенческих советов его поступок показался бы смехотворно безобидным. Но в ту пору, в годы войны, он вызвал сенсацию.
В пятницу Бена и нашего временного преподавателя вызвали к декану факультета. О чем там говорилось и как это все выглядело, мы узнали много позже, и не от Бена, а окольными путями, он на этот счет почти не распространялся.
Профессор, доброжелательно настроенный к нам старик, за что мы платили ему уважением и даже любили его, выразил сожаление по поводу злополучного происшествия и заявил, что готов счесть все случившееся недоразумением — при условии, конечно, что Бен приносит извинения за свою запальчивость. Бен в вежливых выражениях выразил признательность за благожелательное отношение к нему профессора, но твердо заявил, что настаивает на том, чтобы извинения были принесены студентам, поскольку преподаватель, как он сказал, оскорбил весь курс своим несправедливым поведением, не говоря уже о том, что он вообще профессионально беспомощен.
Это вызвало новую вспышку гнева у преподавателя, и он обрушился с обвинениями в наш адрес вообще и Бена особенно. Бен отвечал спокойно, что вот такого рода манера действовать окриком типична для его отношения к студентам, против чего они и протестуют. Положение осложнилось, казалось безвыходным. И тут наш преподаватель заявил, что подает в отставку, и вышел из кабинета декана. Профессор наказал нас, весь курс, устроив контрольную (за которую Бен получил третий или четвертый высший балл), а относительно Бена администрация, дабы сохранить лицо, решила проблему так: его тогда исключили из университета до конца семестра.
Для него это было, похоже, наказанием почище, чем для любого из нас. Ведь его родители были бедны, он остался без стипендии, и теперь пришлось искать деньги, чтобы снимать комнату в городе. Я думаю, все мы чувствовали себя неловко во всей этой истории, хотя и считали, что он сам, собственно, во всем виноват. Как бы там ни было, мы ни разу не слышали от него ни слова жалобы. С другой стороны, он ни разу, насколько я знаю, больше не пускался в подобного рода рискованные затеи. Это была вспышка. На следующий семестр он как ни в чем не бывало вернулся к своему безмятежному существованию всегда уравновешенного человека.
Несколько строк в вечерней газете извещали о похоронах. Я собирался поехать, но так и не успел. В то утро мне пришлось присутствовать на ленче в честь какой-то заезжей знаменитости, дамы-писательницы. Я еще подумал, что под предлогом похорон смогу смыться в первую же удобную минуту. Но дама принадлежала к любительницам пирожных с кремом и лиловых шляпок и еще отличалась истовой страстью к описанию крови, слез соблазненных и покинутых матерей-одиночек — писаниям, собственно, и обеспечивающим наш журнал десятками тысяч надежных подписчиков. Понятно, почему я был не в лучшем расположении духа, когда выехал со стоянки и направился в Карлтон-Центр, где была назначена встреча. К тому же я еще и опаздывал на четверть часа. Погруженный в свои мысли, я не очень-то обращал внимание на все, что творилось за окнами автомобиля, пока у здания Верховного суда до меня не дошло, что здесь происходит что-то необычное. И это заставило меня притормозить и оглядеться по сторонам. Что такое, я не сразу и понял: тишина. Привычного шума в центре города не было, стояла тишина. И люди не торопились, а стояли в тишине. И уличного движения не было. Центр города, шумный, вечно торопящийся, замер. Точно невидимая всепростирающаяся рука нащупала и сдавила ему сердце мертвой хваткой. И казалось, слышался а тишине только ни на что другое не похожий глухой звук мерного биения сердец, слишком слабый, чтобы его могло уловить ухо. И он проникал через плоть и кровь, ощущался подобно подземным толчкам, но не тем, к которым мы привыкли в Йоханнесбурге с его бесчисленными шахтами и вечными взрывами породы.
А прошло какое-то время, и люди поняли, что тишина движется. Вниз по улице от вокзала медленно надвигался людской поток, несущий перед собой тишину, — хмурая, неудержимая стена черных лиц. Ни выкриков, ни вообще шума. И тишину только усугубляли люди в переднем ряду, они шли, подняв сжатые в кулак руки. Руки напоминали сучковатые корни деревьев, что несет с собой к берегу неторопливый океанский прибой.
И из улицы, где мы стояли, и из других улиц вдруг стала надвигаться, выплывая, толпа черных лиц, такая же немая, молчаливая, она двигалась к той, что была у здания Верховного суда, точно ее притягивало туда неведомым гигантским магнитом. Мы, белые, жались к суровым и прочным стенам и к колоннадам домов, единственно и обещавшим нам безопасность. Никто словом не обмолвился, не сделал ни единого жеста. И все было как в немом кино или на экране телевизора с выключенным звуком.