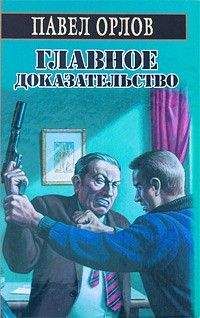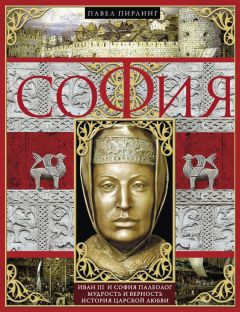Пол Теру - Вокруг королевства и вдоль империи
БОГНОР
В Богноре я прожил дольше, чем рассчитывал. Я привязался к мисс Поттейдж из «Камелота», пляж в солнечную погоду выглядел очень мило, а на набережной вечно стоял старик с деревянным ящиком и торговал огромными, мерзостными на вид моллюсками под названием «трубачи». Он утверждал, что ловит их сам. Погода стояла ясная, но магазины не работали, а набережная была безлюдна. «Еще не сезон», — поясняли мне.
Я осознал, что дурная репутация Богнора — по-видимому, сплошная клевета. В Британии устная традиция путешествий — не что иное коллективный опыт впечатлений из вторых рук. Считается, что страна достаточно невелика и хорошо исследована, чтобы можно было полагаться на чужое мнение. Примерно так, понаслышке, знают и Диккенса: типичный англичанин имеет представление о самом писателе и его персонажах, не прочитав ни единой страницы романов. Таковы же познания и о британских городах. Потому-то у Брайтона репутация отличная, а в Маргейт стараются не соваться. «Дувр, — говорили мне, — о, белые скалы Дувра». Истборн прелестен, говорили мне, и Синк-Портс — тоже. Та же закономерность, что и в случае Диккенса: те же искажения, те же предрассудки. Кривое зеркало молвы превращает некоторые города в их полную противоположность.
«О Дандженессе я знаю меньше, чем хотелось бы», — сказал мне человек, не знавший об этом городе ровно ничего. Распрощавшись с ним, я еще долго хихикал.
Бродстейрз — место серьезное; но Богнор — просто анекдот какой-то, — говорили мне. «Как сказал перед смертью Эдуард Седьмой, — говорили мне (хотя вообще-то это сказал Георг Пятый), — «Ну его к Богу, этот Богнор!», вот и я так говорю». Богнору просто не повезло с названием. Любой английский топоним с буквосочетаниями «bog» или «bottom»[7] заранее обречен. («С конца 18 века в английской топонимике наблюдается прочная тенденция названий, отсылающих к телесному низу. В одном только Нортгемпшире Buttocks Booth был переименован в Boothville, Pisford получил имя Pitsford, а Shitlanger — Shutlangen»). «Камбер-Сендз» благодаря своему певучему, мелодичному имени, слывет идиллическим городком — слывет необоснованно. Слово «Богнор» отдает ватерклозетом и ассоциируется с неухоженностью — и вновь необоснованно. Всякий англичанин имеет категоричное мнение о том, какие приморские английские курорты очаровательны, а от каких лучше держаться подальше. Эти сведения передаются из уст в уста, точно народные суеверия. Англичанин редко выбирает маршрут для путешествия наобум. Отпуск он планирует скрупулезно и весьма нелицеприятно судит о местах, где даже нога его не ступала.
ГРУСТНЫЙ КАПИТАН
Я прошел вдоль Вест-Клифф и спустился на Променад по тропинке, описывающей зигзаг на склоне. Куда я держу путь, я и сам толком не знал; лишь бы в нужном направлении — на запад. На запад я шел уже несколько недель. Миновал пригород Борнмута Эйлам-Чайн, где Стивенсон написал «Доктора Джекила» (нет более литературного города, чем Борнмут: в его «chines» — узких речных долинах с обрывистыми склонами витают тени Генри Джеймса, Поля Верлена, Тэсс Дербифилд[8] и Мэри Шелли — и это я еще не всех перечислил), а затем, взглянув на запад и увидев на противоположном краю залива два стоячих утеса (их прозвали Старый Гарри и Жена Старого Гарри), решил отправиться пешком в Суонедж — если идти по побережью, до него миль четырнадцать.
На моей карте была отмечена паромная переправа у устья залива Пул, в некоем месте под названием Сэндбэнкс. Я сомневался, что паромы ходят все-таки пока несезон — и, чтобы не терять время, спросил о них первого встречного на Променаде.
— Насчет паромов я ничегошеньки не знаю, — ответил он.
Это был старик с серой, какой-то огнеупорной кожей, одетый в черное пальто. Звали его Десмонд Боулз. Я подумал, учитывая его возраст, что он глуховат. Но слух у него был великолепный.
— Что там делают эти ребята? — спросил он, указав на виндсерферов.
Я пояснил.
— Да они только падают с доски, больше ничего, — заметил он.
Наблюдение за виндсерферами — одна из приятнейших сторон приморского отдыха. Занятно смотреть, как они всеми силами пытаются сохранить равновесие, но обязательно сваливаются в холодную воду, долго пытаются опять забраться на доску, снова поскальзываются. Не спорт, а бесконечная напрасная борьба со стихией.
— Я только что пришел пешком из Поуксдауна…
3а семь миль!
— … а мне ведь восемьдесят шесть лет, — сказал Боулз.
— Во сколько вы вышли из Поуксдауна?
— Не знаю.
— А назад тоже пешком пойдете?
— Нет, — сказал Боулз. Он не стоял на месте — шествовал дальше. Ступал как-то нехотя, словно ноги не слушались. Ступни у него были громадные, ботинки старые, блестящие, громоздкие. Шляпу он держал в руке, скомкав. Взмахнув шляпой, он повернулся ко мне боком, одышливо пыхтя, уставившись на Променад. — Вы быстрее меня ходите, так идите, не позволяйте мне вас задерживать.
Но мне хотелось с ним поговорить: шутка ли, в восемьдесят шесть лет прийти пешком из Поуксдауна! Я спросил, зачем он это сделал.
— Видите ли, я раньше был там начальником станции. Поуксдаун и Боскомб — это были мои станции, две сразу. И вот сегодня я сидел у себя дома — вон он, мой коттедж, — он указал на утес, — и вдруг сказал себе, что хочу снова увидеть мои станции. В Поуксдаун я доехал на поезде. Смотрю — день солнечный. Решил: вернусь-ка назад пешком. Я ушел на пенсию двадцать пять лет назад. Мой отец тоже был железнодорожник. Его перевели из Лондона в Портсмут, и я, конечно, тоже с ним переехал. Я был совсем малыш. В 1902 году.
— А где вы родились?
— В Лондоне, — сказал он.
— А где в Лондоне?
Боулз остановился. Он был крупный мужчина. Покосившись на меня, он сказал:
— Теперь уже не знаю, где. Раньше знал.
— А как вам нравится Борнмут?
— Мне города не нравятся, — сказал он и снова зашагал. — Мне это вот нравится, — добавил он.
— Что именно?
Он взмахнул в воздухе скомканной шляпой, выбросив руку вперед.
— Открытое море, — пояснил он.
Еще тогда, на первом этапе моего путешествия, меня озадачило, почему англичане, сидя в автомобилях, смотрят в сторону моря, почему старики и старушки в шезлонгах по всему южному побережью созерцают волны; и вот теперь почтенный железнодорожник Боулз говорит: «Мне нравится открытое море». В чем разгадка? Один из возможных ответов содержится в книге Элиаса Канетти «Масса и власть», нестандартном и блестящем (по мнению некоторых критиков, эксцентричном) исследовании человеческого общества на примере массы людей — толпы. Канетти пишет, что в природе существуют символические подобия толпы — огонь, дождь и море. «Море множественно, оно движется, оно сплошное, его элементы образуют некую единую мешанину» — как и толпа. «Своей множественностью море обязано волнам» — оно состоит из волн, как толпа — из людей. Море могущественно, у него есть собственный голос, оно существует извечно и не знает сна, оно может успокаивать или грозить, или взрываться бурей. Но оно всегда присутствует на своем обычном месте». Источник загадочности моря — то, что таится под его поверхностью: «море кажется еще величественнее, когда задумываешься о том, что в нем содержится, о легионах растений и животных, сокрытых в его недрах». Море нечто всеобщее и всеобъемлющее: «Это образ застывшего человечества; все живое течет к нему и впадает в него, оно содержит в себе все живое».
В той же книге, говоря о нациях, Канетти описывает символ толпы у англичан. Этот символ — море: все триумфы и катастрофы в английской истории связаны с морем; именно море позволяло англичанину рисковать и преображаться: «Его домашняя жизнь — исключительно противовес жизнй в море, гармоническое дополнение к мореплаванию; главные черты домашней жизни англичанина — это безопасность и монотонность».
«Англичанин полагает себя капитаном корабля», — пишет Канетти; так проявляется индивидуализм англичанина в приложении к морю.
Итак, Боулз и все эти старики с южного побережья, смотрящие на море, представились мне грустными капитанами, сосредоточенно созерцающими волны. Море что-то бормочет им в ответ. Море — их утешение. Конечно, оно содержит в себе все живое, но одновременно оно — путь, которым можно покинуть Англию, а также путь к могиле, к смерти на воде, вдали от суши. Море ропщет, как толпа, и обнимает, как толпа, — но для этой своеобычной нации оно не только утешение, не только символ утешения и жизненной силы, но и знак кончины. Эти старики смотрят в сторону смерти.
Боулз все еще ковылял рядом со мной. Я спросил, участвовал ли он в Первой Мировой войне.
— И в Первой, и во Второй, — ответил он. — Оба раза во Франции. — Он замедлил шаг, напрягая память. Затем сказал: — Великая война — это было ужасно… дело гнусное. Но я остался цел — ни одного ранения. Все четыре года отвоевал от звонка до звонка.