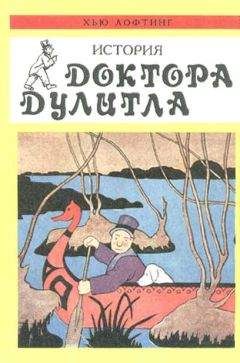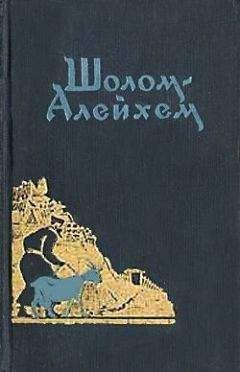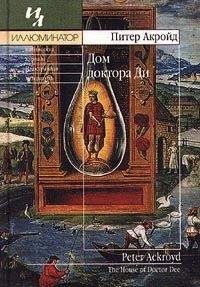Джойс Оутс - У реки
— Да, денежная публика…
Эти слова произнес отец давным-давно, проезжая мимо чьего-то пастбища. Элен эти безобразные рыжие коровы ничего не говорили, но отцу говорили многое. И вот, после того как отец произнес эти слова — они возвращались из церкви и поехали немного покататься, — у матери вдруг испортилось настроение, она стала резкой и придирчивой, и поездка была испорчена. Это случилось давным-давно. Отец Элен был тогда еще молод, весь его вид говорил, что ему не терпится испробовать свои силы; казалось, могучие, мускулистые руки и плечи только и ждали работы. «Денежная публика», — сказал он, и поездка вмиг была начисто испорчена, будто самый воздух стал не тот, потому что как раз в это мгновение переменилось направление ветра, и он дул теперь не с лугов, а с реки, которая в августе и сентябре нередко застаивалась. Сделав усилие, Элен вспомнила-таки, как перед тем думала о матери. И что это у нее в последнее время все только прошлое на уме! Это в двадцать-то два года (не старуха ведь еще) и как раз, когда она новую жизнь начать собирается. Вот приедет домой, искупается, перестирает все, что есть в чемодане, передохнет, прогуляется вдоль реки, как в детстве, пуская по воде камешки, посидит за круглым кухонным столом, покрытым старой клеенкой, выслушает их наставления («Пора тебе за ум взяться — ведь не маленькая» — так говорила мать в прошлый раз), а потом уж решит, что делать. Решит насчет мужа и ребенка, вот и думать будет больше не о чем.
— Так почему же мама не приехала?
— Потому что я не захотел, — ответил он.
Элен непроизвольно сглотнула. Худым и жестким было плечо, к которому она прижималась щекой. Прежние ли это мускулы, или те стаяли, как таяла их земля, ежегодно вымываемая рекой, так что ферма, которую отец Элен когда-то приобрел, постепенно превращалась в насмешку над ним же? Или это были уже другие — твердые и литые, как сталь, напряженные до предела, потому что ему столько лет приходилось сдерживать себя и не давать волю кулакам?
— Это почему?
Он не ответил. Она зажмурилась, и перед ней замелькали какие-то сумасшедшие, жутковатые образы: взрывающиеся звезды, призрачные фигуры, как в кино — в городе она то и дело бегала в кино, зачастую на первый сеанс в одиннадцать утра, и вовсе не от скуки бегала, не от нечего делать, а просто потому, что любила кино. В двадцать минут шестого на лестнице раздавались шаги, он шел, чуть морщась от странной, необъяснимой боли в груди; а Элен, к тому времени вернувшаяся из центра, уже ждала его нарядная, с блестящими волосами и, как у ребенка, свежим и разрумянившимся лицом, не оттого, что ей льстил его взгляд, а потому, что знала, что может хотя бы на время утишить его боль. Так отчего же она ушла от него, если он нуждался в ней больше, чем кто-либо?
— Папа, что-нибудь случилось? — спросила она, словно воспоминание о незримой боли того, другого, человека каким-то образом относилось и к ее отцу.
Он нерешительно потянулся к ней и тронул за руку. Это удивило ее. И сразу же исчезли киновидения — красивые люди, в которых ей хотелось верить, равно как и в бога и в святых, населяющих киноэкранное небо, — и она открыла глаза. Солнце светило ярко. Все лето напролет оно светило слишком ярко. Мозг ее заработал быстро и беспокойно, будто возбуждаемый покалыванием крошечных иголочек. Но, когда она попробовала понять, откуда эти иголочки взялись, никакого объяснения не нашлось. Скоро она будет дома. Скоро сможет отдохнуть. А завтра можно будет повидаться с Полом. Можно сделать вид, будто ничего не произошло и все осталось по-прежнему. Пол всегда так любил ее и всегда понимал, знал, что она собой представляет.
— Может, мама заболела? — вдруг спросила Элен.
— Нет, — ответил отец. Он выпустил ее пальцы и снова обеими руками взялся за руль. Опять поворот. Если бы она потрудилась взглянуть, то немного в стороне увидела бы реку, вывернувшуюся откуда-то им навстречу, обмелевшую в это время года, местами покрытую тонким слоем зеленовато-коричневой пены. Но она не потрудилась взглянуть.
— Семнадцать лет назад мы сюда приехали, — сказал отец. Он откашлялся, как человек, не привыкший разводить рацеи: — Ты и не помнишь.
— А вот и неправда, — сказала Элен. — Очень даже хорошо помню.
— Ничего ты не помнишь. Ты еще совсем маленькая была.
— Да помню я, папа. Помню, как вы большой ковер в дом вносили, ты и Эдди. А я еще реветь начала. А ты меня на руки взял. Я уже большущая была, а рева… А мама пришла и загнала меня в дом, чтобы я тебе не мешала.
— Не помнишь ты этого, — сказал отец. Он вел машину нервно, то нажимая на газ, то отпуская педаль, будто что-то надумав, тут же передумывал. Что это с ним? Элен пришла в голову неприятная мысль: стареет отец, скоро совсем стариком станет.
А когда она пугалась темноты, лежа наверху в их старом доме, в спальне, которую делила с сестрой, надо было всего-то представить себе его. У него была привычка сидеть за ужином так неподвижно, так тихо, что, казалось, ничем его не стронешь, ничем не испугаешь. Так что в детстве, да и теперь во взрослом состоянии ей всегда становилось легче, когда она вспоминала лицо своего отца: его светлые, озадаченные зеленые глаза, которые в зависимости от освещения могли быть то простодушными, то хитренькими, и морщины вокруг рта, с каждым годом врезающиеся все глубже, и угловатые, широкие скулы, в начале лета обожженные солнцем, затем солнцем же прокаленные и выдубленные, и наконец, по зиме, снова бледнеющие. Солнце никак не могло достаточно глубоко прокрасить его кожу, которая была почти так же светла, как у Элен. В воскресной школе ее и других детей учили — когда страшно, вспомни Христа. Но Христос, отштампованный на закладочках для библии и на календарях, был мало похож на охранителя. Он скорее сошел бы за двоюродного брата, которого ты даже и любишь, хоть редко с ним видишься, но который так погружен в свои заботы и раздумья, что от него трудно ждать помощи, не то что от отца. Когда отец с ребятами возвращались с поля в пропотевших насквозь рубахах, с лицами распаренными и измочаленными жарой, все равно каждый видел, что у него крепкое тело, прочно пригнанное к костям, которое никогда не состарится, никогда не умрет. Ребята — ее старшие братья — достаточно хорошо к ней относились, поскольку она была меньшой в семье, и сестра всегда за ней смотрела, да и мать ее тоже любила — впрочем, любила ли вообще кого-нибудь ее мать, воспитанная родителями, которые говорили лишь по-немецки и которым было не до того, чтобы учить ее нежностям? Как бы то ни было, чуть что, бежала она все-таки к отцу. Она и мужчин-то начала понимать, поняв его. Она научилась читать в выражении его лица то, от чего лица других мужчин стали для нее открытой книгой: она сразу понимала, тупы они или остры умом, начинают ли раздражаться или довольны, только до времени не хотят это выказывать. Может, потому она и вернулась домой? Эта мысль удивила ее, она даже выпрямилась, не понимая: как это так — может, потому она и вернулась домой?
— Папа, — сказала она, — как я тебе уже говорила по телефону, я не понимаю, почему я так поступила. Не понимаю, почему уехала. Это ничего, да? То есть я хочу сказать, мне самой стыдно. И больше не будем об этом, ладно? Ты говорил с Полом?
— С Полом? Это еще зачем?
— Что зачем?
— Ты ж о нем до сих пор и не вспомнила, чего ж сейчас-то?
— То есть как это? Он же все-таки мне муж. Разговаривал ты с ним?
— Он к нам каждый вечер целых две недели приходил, три даже. — Элен никак не могла понять, с чего это он так разболтался. — А потом от случая к случаю, но приходил постоянно. Нет, я не сказал ему, что ты приезжаешь.
— Но почему? — Элен натянуто засмеялась. — Ты разве его не любишь?
— Ты же знаешь, что я его люблю. Знаешь ведь. Но если бы я ему сказал, за тобой приехал бы он, а не я.
— Почему же, раз я просила, чтобы ты…
— Я не хотел говорить ему. И мать твоя тоже не знает.
— Как? Ты и ей не сказал? — Элен посмотрела на него сбоку. Лицо его будто окаменело и даже под загаром было бледно, казалось, внутри у него что-то съеживается, исчезает, и, кроме голоса, там ничего не осталось. — Ты хочешь сказать, что даже маме не сказал? Она не знает, что я еду?
— Нет.
Беспокойное покалывание в мозгу вдруг возобновилось. Элен потерла лоб.
— Папа, — начала она ласково, — почему ты никому не сказал? Ты что, стесняешься меня, да?
Они ехали медленно. Дорога повторяла изгибы реки, широкой, мелководной, петляющей, про которую братья говорили, что уже нет никакого смысла ловить в ней рыбу. Неожиданно перед ними возник один из ее рукавов под названием Илистая протока. Сплошной ил и водоросли, кишащие лягушками и стрекозами. Они переехали на другую сторону по шаткому деревянному мосту, закряхтевшему под их тяжестью.
— Папа, — сказала Элен осторожно, — ты ведь сказал, что не сердишься, по телефону-то. И я тебе, помнишь, письмо написала, чтоб все объяснить. Я б и побольше написала, только ты ведь знаешь, я не мастерица писать, даже Энни ни разу не написала с тех пор, как она отсюда уехала. Я все время о тебе помнила и обо всем тут, и о маме… И о дочке я тоже думала, и о Поле. Но Пол и сам не пропадет. Он умный. Правда, умный. Я раз была с ним у нас в магазине, и он завел там спор с продавцами и всех их за пояс заткнул, это он не от отца набрался, хотя у них вся семья умная, верно?