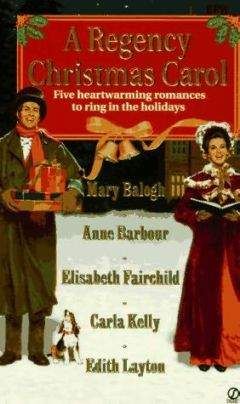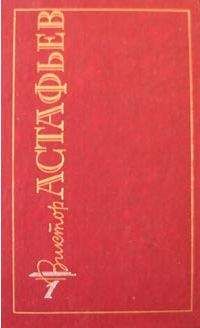Роман Братны - Тают снега
Девушка посмотрела на свои босые ноги. Насупила брови, расстроилась, перешла в другое место, где более частые колья закрывали ее ноги, и замерла.
Машина приближалась все ближе и ближе. Ровный шум мотора выманивал людей из халуп на улицу, мальчишки молча бежали стайкой в облаке пыли, словно ангелы в завитках туч на потолке костела. Вдруг машина остановилась прямо перед нею. Из окна кабины показалась голова человека в полювке.[8]
— Девушка, где находится пост? — спросил офицер. На заросшем лице блеснули зубы.
Нина стояла, раскрыв рот, и смотрела, ничего не слыша.
— Ты немая? — неудачно сострил офицер, и тогда вместе с обидой до нее дошел вопрос.
— Там! — показала она пальцем на пост и отвела глаза.
Машина двинулась, а Нина, рассердившись, показала офицеру язык. Она не заметила, что движущийся мимо нее брезентовый кузов кончился, и это увидели сидевшие в нем на скамейках солдаты.
Взрывом радостного смеха они приветствовали так странно встретившую их девушку. Нина повернулась и галопом помчалась к воротам коровника.
Она спокойно взяла ведро, готовясь к дойке, и неожиданно стала бить им по костистым бокам коровы. Грохот железа и топот перепуганной скотины привели ее в чувство. Она бросила ведро в угол.
Прошло полчаса, прежде чем она вышла из коровника. Полное молока ведро поставила сразу же за порогом, а сама пошла к дороге. Искоса, как будто бы за ней кто-то следил, смотрела она в сторону халупы, в которой размещался пост. Солдаты, поблескивая застиранными хлопчатобумажными штанами, сгружали какие-то деревянные ящики. Из дверей что-то прокричал офицерик, и сразу же двое солдат помчались в его сторону. Вошли за ним вовнутрь.
Нина повернулась и пошла к дому, хмуро взглянув на Хелену, растапливающую печь. С той поры, как ее сестра вышла замуж, между ними возникла ревнивая отчужденность. Младшая с нескрываемой неприязнью смотрела на своего зятя. Пожилой органист, лет на 25 старше Хелены, эвакуированный из соседней деревни, сожженной во время пацификации, и поселившийся в их опустевшем доме, так горячо стал опекать сестер, что однажды вечером Нина наткнулась на запертую дверь одной из комнат. Печальный брак, смешанный с рюмкой водки, которую в нее влили. Нина осталась одна.
— Где молоко?
— Приехали солдаты.
— Я видела в окно. Где молоко?
Нина стояла на пороге. Прищурив глаза, она смотрела на сестру. Из соседней комнаты послышался кашель.
— Ладно, иду, — буркнула Нина и демонстративно повернулась, словно убегая от задыхающегося голоса старого человека.
Глаз отмечал его присутствие, проявлявшееся в новых иконах на голых до этого стенах. Когда-то отец, желая заделать щели между разошедшимися в соединениях балках, обклеил их газетами. Были там номера «Сигнала», какого-то «Освобождения» и «Популярной газеты». Отец, по происхождению украинец, в деревне единственный выписывал польские газеты. Таким уж он был странным, пришел откуда-то из города в деревню как плотник, чтобы после женитьбы стать крестьянином.
Омужичился здесь, в Рудле, а когда-то был преподавателем строительного лицея в городе. «До той поры, пока не стали закрывать украинские школы и открывать польские тюрьмы», — как однажды сказал он Нине. Младшую дочь он учил с начала войны, а когда УПА начала проводить пацификацию сел, засадил ее за книги, как будто сам искал в них покоя. Она училась по польским учебникам. Отец считал, что Нина могла бы уже сдать экзамены за среднюю школу, но над ней стали смеяться одичавшие от пастушества ровесники.
«После всего этого ты сама будешь учить людей», — говаривал отец.
Однажды ночью его забрали. Нина услышала стук в окно комнаты, где он спал, потом голоса, долгий, как будто о чем-то просящий или объясняющий полушепот отца. И еще какие-то шаги, скрип двери. Когда она разбудила старшего брата, отца уже не было. Он ушел навсегда. Никто не знал, кто его увел. Они не получили ни одной весточки, которой в страхе ждали, ничего. Нина со старшей сестрой и братом Алексы осталась на хозяйстве. Алексы только как-то почернел, ходил одеревеневший и вскоре простился с сестрами. В течение нескольких дней она осталась без тех, кто был ее семьей, составлял ее жизнь.
Теперь на мученически висящих вверх ногами отцовских газетах появились, точно прибитые гвоздями справедливого божьего приговора, изображения святых.
Нина вернулась с молоком.
— Там такой смешной один приехал… — сказала она вдруг.
— Что? — Хелена оторвала голову от плиты.
— Ничего, солдаты, говорю, и один такой… — путалась Нина. — Я ему язык показала, — захохотала она.
Хелена пожала плечами и застыла прислушиваясь. Но из соседней комнаты доносились только глухие удары; это органист, бия себя в грудь, совершал утреннюю молитву.
Было уже почти темно. Пение майского богослужения, разливающееся над рекой из каплички на перекрестке, сегодня не содержало горьких жалоб литанийного запева. В нем преобладали пасхальные перезвоны.
«Возможно ли, — размышляла Нина, — у старых баб голос переменился от этих солдат!» И тихо засмеялась своим мыслям. Теперь пение было утверждением существования на самом краю пропасти, а не таким, как до этого, не мольбой о спасении жизни, хотя бы и полной страха и неуверенности.
Их около сорока, не больше. Но у них там эти… автоматы…
Нина пожалела, что она не возле каплички. С той поры, как ханжество органиста выгнало ее оттуда, она демонстративно ушла в работу. В данный момент она стояла на коленях на уходящих в реку мостках, собирая выстиранное белье. Внезапно она привстала.
Кто-то шел в ее сторону. Она сгребла обеими руками мокрый ворох белья и встала с колен. Вот такую, прислушивающуюся, беспокойно насторожившуюся, и обнаружил ее в темноте мощный луч военного фонаря.
— Не бойся, не бойся, — услышала она. — Свой.
— Конечно, не мой, — с трудом выдавила она. Говорившего было не видно.
— Помочь? — Человек был совсем рядом.
— Ну-ну, — пригрозила она, прижимая еще совсем мокрое белье к груди. Она привыкла к деревенским ухаживаниям в темноте и не любила их.
Человек рассмеялся.
— Как хочешь.
Они стояли рядом. Девушка боялась двинуться, зная, что тем самым приведет в движение мужские руки.
— Почему ты не поешь? — спросил он.
— Я одна.
— Что одна?
— Я пою одна. А так — нет.
Ее глаза постепенно привыкли к темноте. На фоне неба была видна вздернутая полювка. Из-под нее блестели глаза солдата. Девушка опустила руки, желая получше взять свою ношу, и вдруг почувствовала, что та стала легче. Незнакомец деликатно, не притрагиваясь к ее руке, снял сверху половину белья. Некоторое время они стояли не двигаясь. Казалось, мужчина прислушивался.
— Это ничего, — сказала она, почему-то злясь, что он обращает внимание на тихий плеск весла со стороны реки.
— Это ничего, — повторила она, видя, что тот не шевелится. — Это, наверно, комендант.
— Рыбу по ночам ловит?..
— Какую рыбу! — крикнула она, а потом засмеялась. — Наверно, заметил кого-то и перевозит на ту сторону. Зачем ему хлопоты?
— Как это? — и она почувствовала, что ее руки опускаются; это солдат положил мокрое белье назад.
— О господи! — объясняла она неторопливо. — Он еще днем заметил, что в камышах запутался какой-то, ну, утопленник, значит, убили его где-то там — ив реку. Раньше так каждый день по нескольку раз…
— Ну, — поторопил человек из темноты. Плеск весел удалялся в сторону противоположного берега.
— Ну и самому коменданту не хочется каждого описывать, так бывает, ночью перевезет на тот берег и подбросит. Пусть там, в Вишнювке, беспокоятся. Я однажды подсмотрела. Купалась ночью и… — Смутившись, она замолчала.
Солдат молчал в темноте, непроницаемой, как невидимая река со своей ношей.
— Ну, дай! — наконец сказал он как-то резко. Взял у нее из рук узел и пошел рядом с ней в деревню, где к темному небу поднималась песня. Она шла впереди него по старой стерне, теперь уже залежи, полем Васьки, который три года тому назад один из первых, еще при немцах пошел во вспомогательную украинскую полицию. Его жена убежала куда-то к родным, когда только начали гореть польские села.
Они были уже недалеко от дома. Увидев в окне кухни свет, Нина удивилась: значит, Хелена не на майском? Нина шла, чувствуя правым боком тревожную близость солдата. Она остановилась в полоске света, падавшего из окна, и протянула руку за своей ношей. Когда он передавал ей в руки узел, похожий на неумело спеленутого ребенка, она взглянула на солдата, и у нее неожиданно перехватило дыхание от какого-то непонятного смущения. Это был офицер, сидевший в кабине грузовика. Тот, которому она показала язык, к радости его солдат. Как от удара кнутом по ногам, она подпрыгнула, перекрестилась в прыжке и нырнула в темноту. В руках у офицера осталась какая-то мокрая рубашка. Улыбаясь, он рассматривал свой трофей. Потом сделал шаг в сторону веранды. Намереваясь повесить рубашку на перила, он бросил ее вперед. Раздался жуткий крик. В темноте виднелся тонкий силуэт. Женщина закричала еще раз и умолкла, давясь громким испуганным дыханием.