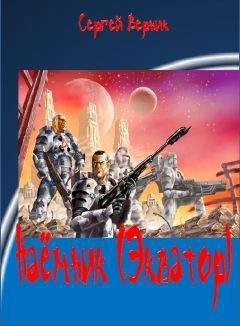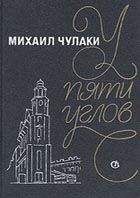Клер Эчерли - Элиза, или Настоящая жизнь
После праздников я решилась, я пошла в коллеж Сан — Никола к директору. Люсьен учился там в первых классах, поскольку приход помещал, как правило, сирот в одну из своих школ. Я рассказала, что происходит с братом. День спустя директор написал мне, что предлагает Люсьену место надзирателя в вечерние часы. Это все, чем он может помочь. Через некоторое время он его вызовет.
Получив письмо, Люсьен прочел и перечел его, потом скрылся в своей комнате. За столом он не сказал ни слова и ушел как обычно. Вечером я спросила его:
— Ты утром не получил ничего важного?
Он недобро взглянул на меня.
— Так это ты? Вполне в твоем стиле. Может, вы оставите меня в покое? Я — надзиратель, ты отдаешь себе отчет? Если нужны деньги, так бы и сказали, я мог пойти в порт, на завод…
Тем не менее он пошел в школу.
В конце месяца он принес нам свой конверт, положил на стол.
— Что это? — спросила бабушка.
Она открыла и улыбнулась:
— Твой первый заработок!
Он испугался, что за этим последуют трогательные излияния, и ушел.
Однажды вечером, после ужина, когда бабушка еще сидела в полудреме, за столом он сказал ей:
— Послушай, тут есть одна девушка, ты знаешь кто. Я хочу жениться. Теперь я работаю, я все продумал.
Сначала бабушка смеялась, потом угрожала, потом умоляла и, наконец, в одно прекрасное воскресенье приняла Мари — Луизу и ее отца. Тот перечислил всех, кто у него на иждивении, и предупредил, что не сможет ничем помочь молодым. Воспрянув духом после этой беседы, напоминавшей скорей тяжбу, чем сговор, бабушка заключила: «Ну, не в последний раз видимся, соседи все–таки».
Весна была холодная. Утренники одевали сквер изморозью. Я до мая не расставалась с пальто. Оно пахло мокрой псиной, залубенело от дождей и постоянной сушки перед плитой. Дома не прекращались ссоры. Холодные рассветы, тусклые краски города под негреющим солнцем, дни, катящиеся под уклон в липком тумане, и это тяжелое пальто, которое надо снова натягивать каждое утро; озлобленное упорство Люсьена, его взрывы ярости и молчание, скрежет кочерги в плите, когда бабушке уже нечего больше сказать; наше бессилие, полный крах, облупленная штукатурка коридора, которая тащится за нами до самых тюфяков, входная дверь, захлопывающаяся от порыва ветра, — постучишь три раза и стоишь под дождем, отвечаешь, задрав голову, на «вы к кому?». Я задыхалась от безнадежности, от ощущения, что увязла в тине, я стояла с глазами, полными дождя и слез, с оледенелой шеей и ждала какой–то несбыточной помощи. Такая была у нас весна.
«Жить своей жизнью, забыть о нем». Я пыталась, день, другой. Начиналось это с наведения порядка. Я перекладывала свои вещи. Брать их в руки, находить им новое место, — иллюзия перемен. Но надо было жить. И все шло снова, как заведено, мной заведено. Я следила за Люсьеном и страдала из–за него. Однажды он вернулся рано, в восемь вечера. Дни увеличились, еще не стемнело. Он устало сел спиной к окну.
— Тебя так выматывает работа? — спросила бабушка. — Ложись пораньше. Бери пример с сестры, она в десять часов всегда уже в постели. А я все же надеялась, Элиза, выдать тебя замуж раньше, чем твой брат женится…
Я вздохнула. Он пристально посмотрел на меня и неожиданно подмигнул, указав на дверь своей комнаты, потом встал, потянулся и, не отрывая от меня взгляда, скрылся в ней. Когда я присоединилась к нему, он засмеялся, потирая руки.
— Говори, говори! — сказал он невидимой бабушке.
Но нам тут же стало неловко, мы не знали, что нам сказать друг другу. Украдкой он посмотрел на окно. Может, ему уже надоело мое присутствие.
— У тебя и правда утомленный вид. Работа?
Он рассказал мне о классе, где был надзирателем. Сначала ребята его полюбили. А теперь они устали от него.
— Там так сумрачно, тоскливо. С кафедры мне виден только клочок неба. Когда я лежал после несчастного случая, я с этой кровати тоже не видел ничего другого. Целые дни я не отрывал от него взгляда. Я различал чуть ли не каждую крапинку на небе, у меня в глазах рябило.
— Это позади, — сказала я, чтоб его ободрить.
— Знаю. Это не повторится. Я был точно в стеклянном шаре, все меня видели, никто не слышал. А я хотел одного — разбить стекло, чтоб кто–нибудь меня выслушал.
Я подумала: «Уж не Мари — Луиза ли тебя услышит?» Но вслух не сказала, не смела. Он вынул из кармана канадки скрученную газету и развернул ее.
— Хочешь? Я тебе оставлю, тебя это наверняка заинтересует.
— У меня сейчас совершенно нет времени читать, — сказала я.
И тут же пожалела. Он разочаруется во мне.
— Дай газету. Новая? Я никогда ее не видела.
— Новая и очень значительная.
— Да? — удивилась я.
— Она выступает против войны.
— Какой войны? Против войны все.
— Ты думаешь? Ты разве не знаешь, что мы вот уже пять лет воюем?
— Ну, так это в Индокитае!
Помню, каким легкомысленным тоном я это произнесла. Далекая, не бьющая в глаза война, с невнятными целями, в ней было даже нечто успокоительное — доказательство здоровья, переливающихся через край жизненных сил.
— Ладно, — сказал он, точно поняв, что зря теряет время. — Пора спать.
— Когда ты уедешь, я займу твою комнату.
— Куда уеду?
— Ты сам говоришь, что хочешь либо жениться, либо уехать. Хоть ты и раздумал, видно, завербоваться, но в конце концов ты так или иначе ускользнешь отсюда.
— А ты нет? Бабушка уже стара; когда ты останешься одна… У тебя никогда нет желания уехать?
Он снимал с себя свитер, и голос его звучал приглушенно. Стянув свитер с головы и не вытащив рук из рукавов, он сел возле меня. Я подбирала слова, стараясь не произнести имя Мари — Луизы. Кто знает? В один прекрасный день его память наткнется на мои слова, как на цветы, засушенные в книге.
— Настоящая жизнь, — сказал он мягко, — похожа на тебя. Покой, мир в душе. Я тоже хочу умиротворенья. Поверь мне, Элиза, я хочу жениться, чтоб жить именно так. Я уверен, что буду счастлив, еще счастливее, если говорить точнее. И тебе станет лучше, и бабушке тоже.
Ему удалось меня растрогать. Он знал, как я чувствительна к этим картинам тихой, простой, порядочной жизни.
После клятв: «никогда не дам согласия», после слез, сцен, угроз бабушка сдалась. Устав от яростных споров, от мрачной мины Люсьена, понимая, что ей не удастся его переубедить, боясь, как бы он не выкинул какой–нибудь глупости, она предпочла, взятая измором, сказать ему однажды вечером, наливая суп:
— Поступай как хочешь, женись, оставайся, уезжай, — я на все даю согласие.
Она села и облегченно заговорила о другом.
Когда Люсьен сообщил нам с усталым и грустным видом, что все формальности выполнены, она приняла это спокойно. Но, оставаясь наедине со мной, часто плакала. Она великодушно спустилась с нашей лестницы и поднялась на третий этаж дома в глубине двора. Там было договорено, что Мари — Луиза не уйдет с работы и жить молодые будут у нас. Мы были поставлены перед свершившимся фактом. Дата была назначена, и бабушка едва успела почистить свое черное платье. Накануне венчания она завила волосы. В свадебном кортеже именно она была самой заметной фигурой: глаза ее блестели, сдерживаемое возбуждение заменяло косметику, она была вся в черном — платье, чулки, туфли, шляпа — низко на груди приколота камея. Ее выделяло нечто неуловимое, неосязаемое, как аромат; умение держаться, что ли. Говорила она мало, ела и пила сдержанно, это она–то — такая прожорливая дома. На венчании после гражданской церемонии нас осталось семеро. Пономарь зажег всего одну лампу. Аббату пришлось, прервав молитвы, попросить его добавить света.
Родители Мари — Луизы уехали в тот же вечер на сбор винограда. На несколько дней Люсьен с женой обосновались в их пустой квартире.
Я легла в комнате брата с ощущением, что сжимаю в объятиях нечто, навсегда от меня ускользнувшее. Я уже успела забыть, что во дворе совсем иные шумы и запахи, чем на улице. До полуночи парни свистом вызывали друг друга, их подкованные каблуки стучали о цемент ступеней, люди переговаривались через окна, и потрескивание кипящего масла на сковородах жильцов, ужинавших поздно, возбуждало аппетит.
Странной они были парой. Она вставала рано и около семи уходила на свою кондитерскую фабрику, где до вечера стояла у машины. Когда она возвращалась, Люсьена уже не было. Она ждала его у себя в комнате, читая иллюстрированные журналы. Иногда, едва вернувшись, она причесывалась, пудрилась и отправлялась встречать его к площади Виктуар.
С нами Люсьен не общался вовсе. Я первой заметила, что предвидится ребенок. Сказала бабушке.
— Можешь поверить, я этого ждала… Ох и натерплюсь я еще с этим парнем. Надо сказать, что девчонка висла на нем. Заварил кашу, пусть сам и расхлебывает, пусть теперь зарабатывает на жизнь.