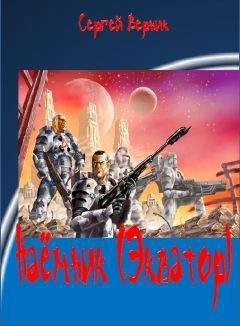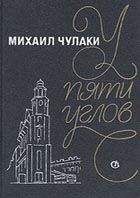Клер Эчерли - Элиза, или Настоящая жизнь
Завтра она постучит тихонько:
— Это Анна.
Я открою, мы поздороваемся.
— Вы уезжаете? Вам больше не нужна комната?
— Нет. Я уже сложила вещи.
Подойдет самый трудный момент: выражение благодарности. Торопясь покончить с этим, мы обе постараемся не быть многословными. Заговорит ли она о Люсьене?
В четырнадцать лет у брата было два увлечения: его друг Анри — увлечение благородное, — и ролики, которые он надевал, едва вернувшись из коллежа. В течение нескольких месяцев каждый вечер мы слышали постукивание роликов вдоль тротуара. В воскресенье он вставал рано, торопливо завтракал, в полдень прибегал домой, чтоб вновь исчезнуть до вечера и, придя, рухнуть в постель, дрожа от усталости. Однажды утром, из любопытства, я перешла за ним следом площадь Кенконс. Холодный туман размывал контуры крыш, ветви черных деревьев были покрыты инеем, фонари еще горели. Мне стало тревожно за Люсьена, я решила увести его домой. Он стоял одиноко в ледяном тумане: короткое песочное пальтишко, гольфы выше колен, на ногах ролики. Свой красный шарф он снял и бросил его на землю около дерева. Я глядела на Люсьена: глубокие впадины под коленками, покрасневшая от холода кожа голых ляжек, вытянутые руки, сейчас сорвется с места. Я вдруг поняла счастье бродить в тумане, сладость одиночества в спящем мире, ощущение свободы, опьянение стремительного, не встречающего препятствий бега, когда холод омывает глаза, леденеют руки, горят ноги. И представила себе, как он возвращается в кухню, где бабушка вяжет, я читаю, а он слоняется между нами.
Несколько раз после обеда я пыталась сопровождать его. Сидя среди матерей, я терпеливо ждала шесть часов, держа на коленях еду, приготовленную для него, выслушивая родительские излияния. Но и от этой радости мне пришлось отказаться, так как на обратном пути он корил меня, что я слежу за ним, шпионю, делаю ему назло, угрожал сменить место тренировок или вовсе не выходить из дому, если я буду повсюду за ним таскаться.
Они с бабушкой часто пререкались. Она мелочно придиралась, он дерзил. Некоторое время он еще рассказывал нам об Анри, но стыдливо, изменившимся робким голосом. По этой сдержанности я чувствовала, до какой степени Люсьен любит его. Однажды, у выхода из коллежа, я познакомилась с Анри. Он был старше Люсьена, держался холодно, что придавало ему значительность. Говорил он медленно, важно. Я перед ним робела, хотя ему было всего семнадцать лет. Я, должно быть, показалась ему девочкой. В двадцать лет я и правда выглядела очень юной. Я гордилась своей бесцветностью, одевалась в блеклые тона и черпала удовлетворение в том, что я «не такая, как другие».
— Ты кажешься исключительной только себе самой, — сказал мне Люсьен позднее.
Приближался день школьного спортивного праздника. Его проводили в последнее воскресенье мая. Анри, натренированный атлет, готовил гимнастические упражнения, и брат надеялся блеснуть. Он тренировался по вечерам, когда мы были внизу. И Люсьен верил, что Анри выберет его. Он говорил мне об этом небрежно, как обо всем, чем дорожил. Но он не удостоился. Анри предпочел некоего Казаля, очевидно более ловкого, чем Люсьен.
— Я взбираюсь на трапецию, Казаль выделывает свои акробатические трюки, а я стою рядом, как пешка, и только два раза помогаю ему встать. Я не мебель, откажусь, и все.
Тем не менее он согласился. Он приходил домой после репетиций заносчивый и жалкий. Он не хотел успеха Казаля, не хотел видеть, как тот раскланивается под аплодисменты и как Анри, похлопывая его по плечу, ведет выпить после триумфа.
Он вскарабкался на перекладину и застыл там в своей голубой майке. В тот момент, когда Казаль, поднявшись туда же, начал упражнения, мы увидели, что Люсьен отступает к краю доски, точно забыв об опасности, и падает. Все закричали, вскочили. Казаль спустился, дрожа. Люсьен взял свое. Казаль вышел из игры. Брат лежал три месяца с переломом левой ноги, трещиной в запястье, ранами на голове. Экзамены он не сдавал и в коллеж больше не вернулся. Анри его не навестил; лишь однажды прислал открытку с извинениями и добрыми пожеланиями.
Ни писем, ни гостей, никого, кроме нас троих. Неизменный вид из окна — камни домов. Он читал. Ему нужно было много книг. Играл в шашки. Курил. По утрам я сидела с ним. Он признался мне, что страстно желал не позволить Казалю блеснуть. Тронутая доверием, я не осмелилась высказать порицания. Незабываемые недели. Он говорил со мной, подзывал, прочтя что–нибудь особенно волнующее, смеясь, пытался привить мне свои вкусы, свои идеи, которые часто меня шокировали. Кровать его была завалена газетами, где жирными буквами было напечатано название Мао — Ке. Там шло сражение [2], но меня это не тревожило. Ни разу он не открыл тетради, никогда не упоминал о возвращении в коллеж. Иногда он говорил: «Вот выздоровею, встану на ноги и завербуюсь». Бабушку это повергало в ужас, она уже видела его на рисовых полях Индокитая — она говорила: «Китая». Он выздоравливал медленно, хандрил всю зиму.
Нашим нежным отношениям пришел конец. Снова он проводил дни, запершись и угрожая нам при малейшем замечании:
— Если будет так продолжаться, я завербуюсь…
На стену в своей комнате он повесил карту с крохотными флажками, трехцветными и черными. На бабушку это произвело сильное впечатление, она уже не смела ворчать. Вечерами, когда он уходил, я знала, что он глядит на корабли, на воду и тонущие в ней огни портовых фонарей. Денег у него не было, и он редко просил их у нас.
Через два года после несчастного случая здоровье его все еще оставалось хрупким. Он не завербовался, не уехал, он женился на Мари — Луизе.
По утрам, когда Люсьен входил, я отворачивалась. Он брюзгливо здоровался. Его злило наше присутствие, взгляды. Он хотел бы, чтоб мы были безразличны, слепы, чтоб его появление в кухне проходило незамеченным. Еще маленьким, пробуждаясь и встречая наши улыбки, он отбрыкивался: «Нет, нет…»
Наступали тягостные минуты: его приход, гнетущее настроение. Только бы не ошибиться, найти жест, слово, чтобы разрядить мрак. Ему было невмоготу встать и проделать при нас весь интимный утренний ритуал. Я пыталась вообразить его свежевымытым, выходящим с улыбкой из ванной. Я исчерпала все средства: мягкость, веселье, подшучивание, я хотела любой ценой сделать приятным этот первый час, проведенный вместе. Я нуждалась в атмосфере покоя и доброжелательности и пыталась приобщить к ней Люсьена.
Как–то я предложила ему работу в одной из фирм, для которых печатала. «Еще чего…» — оборвал он меня с презрением, свойственным людям не работающим и живущим в ожидании занятия, их достойного. Он был поглощен одним: своей новой любовью. У него не было приятелей, которые обычно иронизируют, высмеивают, опошляют первые желания, порывы, все то, что в восемнадцать лет понимается под словом любовь, и он непомерно возвеличил свое чувство. Пылкая фантазия и полное безразличие ко «всему остальному», как он выражался, отгораживали его непроницаемыми стенами, предохраняли от нас. Когда после мартовских дождей открылись окна, ранним утром возникла Мари — Луиза. Сначала тень, смутный контур, потом, с приближением лета, лицо, позолоченное лучами невидимого солнца, черная челка.
Бабушка наткнулась на них однажды вечером, когда они целовались в подъезде. Она рассердилась и посоветовала Люсьену искать себе девочек где–нибудь подальше.
Я часто шарила в его комнате, в белье. Но у него царил хорошо организованный беспорядок, и он мог, ничем не рискуя, спрятать что угодно. Карта на стене покрывалась пылью. Он вовсе перестал выносить нас, изводил грубостью и, если разговаривал с нами, что случалось редко, — пускался в пламенные разглагольствования о том, сколь гордится своим положением угнетенного.
— Да, но ведь ты, Люсьен, делаешь, что тебе вздумается. Правда, до сих пор ты предпочитал ничего не делать.
Это его задело. Я поняла по глазам. Он с удовольствием ударил бы меня.
В подобных случаях он поворачивался и шел к себе. Устремлял взор на окно Мари — Луизы. Прижимался лбом к стеклу, ждал, когда она появится, делал ей знак и уходил из дому.
В сочельник он оделся засветло.
— Ты не будешь ужинать с нами?
— Буду, только забегу к приятелю.
— У тебя завелся приятель?
— Да, завелся.
Мы долго ждали. Рождественский вечер, очарование ароматов кухни, где до последнего момента с кастрюль не снимаются крышки, а в духовке ждет сюрприз, — все это утратило без него всякую прелесть.
— Он, должно быть, с этой, из дома напротив, — сказала бабушка.
И принялась вспоминать усопших, поедая сюрприз.
После праздников я решилась, я пошла в коллеж Сан — Никола к директору. Люсьен учился там в первых классах, поскольку приход помещал, как правило, сирот в одну из своих школ. Я рассказала, что происходит с братом. День спустя директор написал мне, что предлагает Люсьену место надзирателя в вечерние часы. Это все, чем он может помочь. Через некоторое время он его вызовет.