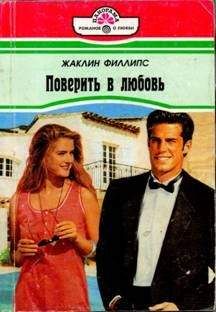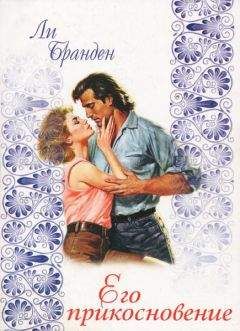Зорин - Исповедь на тему времени
Герострат (тихо). Глупцу легко живётся.
Ксанф. Да, весело было… Но чего ты молчишь? Ещё же не умер.
Герострат. Зато ты гудишь, как пустая бочка! (Присматривается.) Или «сатиру в свите Диониса слова скользки — его несёт по ним, как бегуна по маслу из оливы?»
Ксанф. Ты это, Герострат, брось… Я не пьян… Конечно, развели с друзьями… Но совсем немного… Купцы клялись Гермесом, что вино из Аттики… Пахнуло сразу домом, как было удержаться? А вино, и вправду, оказалось славным, не то, что местное — бр-р! — от которого облысел твой отец.
Герострат. Но мой отец не был лыс!
Ксанф. Разве? О мёртвых много болтают. Только что им до этого?
Герострат. Эх, Ксанф, как мало слов, как много заблуждений! Не ты ли сам мне только что поведал, как чашу пригубил, как запах в ней лозы, знакомый с детства, тотчас вернул тебя к родному очагу? И это, Ксанф, ничтожный запах! А языки всесильны и подавно. Ведь «сколько раз ты на земле помянут будешь, то столько же вернёшься ты назад». (С пафосом.) Бессмертье смертного, единственная вечность, тот остров, которого не смыть реке времён, — всё это, Ксанф, людская память. Добраться до него и уцелеть, спастись, не дав сырой земле сравнять и муки, и страданья, не сделав их напрасными, — вот смысл и назначенье жизни. Иное — тлен, обман, придуманный, чтоб скрасить неудачи, чтобы прикрыть никчёмность тех, кто не добрался, чтобы утешить их риторикой пустой. Однако же как раб льнёт к новому хозяину с надеждой, так льнут к нему. Ведь страшно как, когда крадётся старость — тень холма могилы, и впереди — бессмыслица и тьма, и плакать без толку, а плачешь и думаешь: «Какой-то Герострат — одно из сгинувших в безвестности имён». Тогда — что чёрствый хлеб, что блюдо из фазана…
Ксанф (передразнивая). Ах, вот о чём скорбишь! Чужая слава застит свет, кусает зависть бешеной собакой! Бьюсь об заклад, ты молишься, чтобы не стёрся набор случайный букв, присвоенный без спроса при рождении.
Герострат. Ты издеваешься?
Ксанф. Да что ты! Папирус, свитки, глина и пергамент — быть нацарапанным на этой саже времён истлевших жаждет каждый, не замечая, что они — круги на Лете.
Герострат. И пересмешнику не избежать конца.
Ксанф. И каркающей вороне.
Герострат (после паузы). В одном ты прав: творцы умерших славы — летописцы. Не будь слепца — никто не знал бы Трои, а Кир и всё его величье уснули бы навек без Ксенофонта. Так чем же их привлечь? Я много думал и понял: надо сделать так, чтобы писали — «как Герострат». Стать эталоном нужно. Но вот беда: полна уже копилка! Она, как постоялый двор, где ложи заняты. Доблесть — спартанцем, скупость — лидийцем, дружба — фиванцами…
Ксанф. А святотатство — варварами?
Герострат. Вот-вот, спали я завтра храм — им уподобят. Но кто избранники? Сократа прославила цикута, Эдипа — брак с матерью, Ксеркса — причуда высечь море. Я опоздал, все маски разобраны, остаётся самая презренная — маска глупца.
Ксанф (убегая). Безумец!
Гениальный Герострат, отомстивший за всех безвестных! Ты заслужил бессмертие, тебя помнят, узнавая себя, слыша в твоём имени легион исчезнувших имён.
ВЕЧНАЯ ПЕСНЬ
Мои предки были неграмотны, но одним ударом рубили ногу коню, а бичом перебивали ему хребет. Головами, которые они отсекли, можно запрудить реку, а мятежниками, которых распяли, — обнести границы Империи. Они не были любопытны, но вопросами могли свести с ума пифию, а ответами — запутать богов.
Я, Тит Адриан Клодий, помощник претора, продолжаю их ремесло. Мною пугают детей, и мужчины, увидев меня во сне, вздрагивают. Я знаю, что меня ненавидят, я повсюду, как на иголки, натыкаюсь на косые взгляды и молчаливые проклятия. Пустяки, лишь бы боялись!
Из услышанного мною можно составить дюжину книг. В неясном дрожании факелов писец выводит признания — я умею развязать язык, прежде чем его вырвать. Бледный от сырости каземата, он кутается в широкий плащ, скорчившись на камне так, что у него затекает шея, но дощечку с коленей не опускает. Я умело расставляю силки из слов, а он следит, когда в них попадётся птица. «Раньше было другое!» — звенит он колокольчиком, поднося мне свои протоколы. У букв мёртвая хватка! Когда-то помощник вздрагивал при треске костей, его руки дрожали, а палочка валилась из пальцев, как птенец из гнезда. Теперь он смеётся, точно мальчишка. Впрочем, арестованные платят той же монетой. Помню, как сломленный дыбой заговорщик с синими, словно у мертвеца, губами пробормотал сквозь запёкшуюся кровь: «Наклонись, я шепну тебе имена сообщников…» А когда я приблизил лицо, воткнул мне в глаз палец. После он выл от боли, умоляя его прикончить, и в сравнении с его муками танталовы казались блаженством. Но разве его жизнь стоила моего увечья?
В молодости мой помощник изучал философию. Он гордится тем, что плавал в Грецию, где постиг логику, которой не хватает у нас. «Как можно изучать то, чего нет?» — удивляюсь я. Мой отец вышел из таверны, где всю ночь разбавлял воду вином, но его голова оставалась ясной. В ней роились мысли о врагах цезаря, которые повсюду точат ножи. На улице его раб шарахнулся, вместе с тенью от факела, а отца затоптал конь. Им правил городской квестор. Я вызывал его в суд, беря в свидетели небо, но адвокат захлёбывался слюной, и квестору всё сошло с рук.
Моя сестра была весталкой. Ей поклонялись, как богине, целуя её следы и молясь её косам. Сорвав белое покрывало, её закопали заживо, когда она нарушила обет целомудрия. А в её позоре был виноват трибун, бойкий краснобай, говорливый, как трещотка. Он встал под защиту сената, и опять я, бессильный, кусал локти.
После случившегося я стал ходить в лупанарий, забываясь среди гетер, и одиночество теперь кружит надо мной, как ворон.
Однако в Риме свой календарь: за июлем следует август. Когда в казначействе не досчитались бочонка талантов, подозрение пало на квестора. Как это бывает в час заката, его тень удлинилась в сторону моего подземелья. Здесь он смотрел на меня с молчаливым презрением до тех пор, пока раскалённый крюк не проткнул ему щёку. Ползая на четвереньках по каменному полу, он признался, что в ту ночь проиграл в кости больше сестерциев, чем серебра в его рудниках. Дорогой он вымещал злобу на скакуне и задавил кого-то, о ком наутро забыл.
«Улица оказалась узкой, а конь — тучным», — оправдывался он, захлёбываясь кровью, как прежде — ложью.
И я не упрекал его. Ибо смерть переворачивает всё с ног на голову. «Убей врага — заведёшь друга, — говорят германцы. — Провожая на Елисейские поля, он зажжёт лучину, которой осветит путь…» И я надеюсь, что тень квестора встретит меня за Ахероном, не тая обиды.
Затем звёзды отвернулись от трибуна. Он попал под проскрипции и спустился ко мне в сопровождении ликторов, всё ещё веря в свою неприкосновенность. Эта вера покинула его вместе с мужской плотью, которую я скормил псу, — часом раньше мне сообщили, что сенат не нуждается в его откровениях. Такой болтливый, он навеки замолчал, и я не знаю, понял ли он, что сказал из того, что говорил.
Патриции и плебеи, клиенты и вольноотпущенники — все спускались ко мне, как в царство мёртвых — наверх не поднялся ни один. «У тебя, как в банях, — однажды сострил император, — все одинаковы».
Так, карая его врагов, я губил виновников своей неизбывной тоски. «Богу — Богово, кесарю — кесарево», — говорил иудей, сгнивший у нас за тюремной решёткой. Глазастый, как муха, он припадал к железным прутьям и повторял, что прощение — благо, называя преступниками тех, кто небесной славе предпочёл земной почёт. Перед смертью он глухо пророчествовал, будто не за горами времена, когда придётся ответить за каждую царапину. «Милосердие — удел сильных, — возразил ему писец, — а не такой мерзкой вши».
Возлежа вечером на пиру, мы топили в вине эти безумные речи, грозя гвоздями из распятий сколотить вокруг Рима забор, однако слова, как сажа, — когда дым рассеивается, остаётся пятно.
Теперь легионы теснят варваров, и римские орлы будут утверждены скоро на берегах Рейна и Евфрата. Тогда, верит писец, наше искусство исчезнет. Но это заблуждение. Наше дело вечно, как огонь, который поддерживала в храме моя сестра.
«Поджаривая лепёшки на раскалённых клещах, писец сглотнул слюну, а после вытер о тунику жирные ладони…» — шевеля губами, водил по строчкам Тициан Андрэ Клодель — добровольный экзекутор французской Республики. Книга принадлежала аристократу, голову которого он вчера показал черни, прежде чем швырнуть в корзину. Имущество подлежало конфискации, и книга досталась палачу. «Что римляне? — думал Клодель, уперев в буквы крючковатый палец. — Горстка властолюбцев, несших пороки на острие своих копий. Они заботились о величии Города, разнося по миру его заразу. “Свобода, равенство, братство!” — вот слова, ради которых мы готовы одинаково — умереть и убить. Во имя них я буду искоренять врагов народа, как чесоточных овец, во имя них стучат сегодня тысячи голов, скатываясь по ступеням эшафотов, которые для Франции — лестница в небо!» Клодель захлопнул книгу. Зачем читать чужую исповедь, если можно написать свою? Сунув топор в чехол, он медленно зашнуровал камзол, помечая продетыми отверстиями её главы.