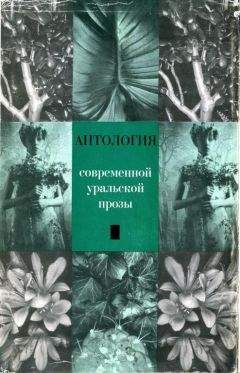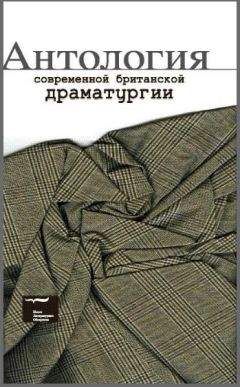Андрей Тургенев - Месяц Аркашон
После представления никто, слава Богу, не пристает с вопросами. Первые годы подходили, интересовались моим происхождением, иногда земляки своего узнавали — очень это меня напрягало. Но со временем я, похоже, научился вписываться в европейский пейзаж.
Виски — граммов двести — я допиваю почти залпом. Потом мы идем в кино на «Людей в черном-2», и на сеансе я так догоняюсь пивом, что не могу шевелить ногами: последние деньги съедает такси.
Утром мы долго давимся последним оплаченным завтраком. Набиваем утробу про запас. Мучительное занятие: оба мы мало едим с утра. Эти бутерброды, а вернее, один из них — с бумажным сыром и ветчиной цвета кофе с молоком — и решил мою судьбу на ближайшие дни. Уплетая дешевую гостиничную гадость, я принимаю решение. То есть не то чтобы я принимаю такое решение: изменить своим принципам. Или такое решение: поискать приключений себе на задницу. Нет. Совсем другое решение: пообедать сегодня устрицами с хорошим вином. Но деньги-то на устриц я могу получить только через «Вестерн Юнион»!
Мы идем в Пантеон, где какой-то парень выставил огромный зеркальный шар. Херувимы, растекаясь по его поверхности дождевыми потеками, развоплощаются: кичатся неземной своей сущностью. Потом мы садимся на ступеньки, я шугаю голубя, закуриваю «Лаки-Страйк Лайтс», а Алька откупоривает жестянку с колой и скручивает первый утренний джойнт.
— Алька, — осторожно начинаю я. — Мне послезавтра надо уезжать…
— Далеко?
— На Юг.
— Послезавтра? Мы вроде хотели тусоваться в Парижике до конца месяца.
Так Алька уничижает нашу географию: Парижик, Берлинчик, Европка такая крохотная…
— Ну вот, такая незадача, — засеменил я. — Выгодная работа, давно такой не предлагали. Видишь, денег нет, а так я сегодня уже получу аванс. Устриц похаваем… Но там дел немного, на неделю, а потом я могу приехать к тебе, куда скажешь…
У меня неприятный даже мне самому виноватый тон. И главное — бесполезно виноватый. Алька тут же уходит в себя, но не потому, что обиделась. Просто переваривает оперативную информацию. Соображает, куда деваться и чем заняться. Зависнуть в Парижике или уехать в другой город. К одному из тех, кого она называет — если вообще их в речи употребляет, что редко — исключительно словом «человек». Или «один человек». Этим «людям» она и про меня говорит, наверное: «Так, человек». Не конь, не морж, не спиральная галактика. Человек.
Алька не сильно ко мне привязана. Думаю, сильно она ни к кому не привязана. Если чувство и проявляется, то редкими, как ее звонкие хихикания, всплесками. Короткими уколами. Однажды, воспылав внезапной страстью, она, без гроша в кармане, примчалась ночью автостопом из Франкфурта в Мюнхен — лишь для того, чтобы уснуть у меня на плече, а утром вновь стать равнодушно-чужой. Это я ее хочу длинно, это я обижаюсь, когда она вдруг сообщает мне о решении сию секунду усвистать по каким-то таинственным делам. Я начинаю страдать-увядать, как цветочек, лишенный влаги. Сам он себя полить не может: ручек нет. Алька же — существо пугающе автономное. Сидит, что-то про себя вычисляет, беззвучно шевеля губами.
— Понял, — говорит Алька. Это слово она часто произносит так: в мужском роде. — Вас понял. Ты мне купишь билет до Кельна?
— Куплю, конечно, — засуетился я. — Я сейчас позвоню, чтобы деньги высылали. И с собой тебе дам.
— Чисто ван вэй тикет на «Талис», — отстраненно говорит Алька. Она уже далеко от меня. Настраивается на другую волну. Иногда я завидую ее способности стремительно переключаться. Перетекать, как река, из города в город, от «человека» к «человеку», ни к чему и ни к кому сильно душой не прикипая. Приклеиваясь, например, к «вохенендчикам» — обладателям дешевых воскресных коллективных билетов, — когда нечем заплатить за поезд. О завтрашнем дне не парясь. Последняя виза ее приказала долго жить полгода назад, новой Алька не сделала и пополнила пестрое племя нелегалов. Но она без малейшей истерики болтается по Шенгену в ожидании высылки или трахаля, который придумает ей здешние документы. Лицо у Альки все время немножко настороженное, будто она прислушивается к тикающему внутри механизмику, который, вдруг сработав, вынуждает ее к молниеносным марш-броскам.
Что, по ее словам, и есть аристократизм: позволить себе заниматься исключительно «отношениями». Когда содержание дня полностью исчерпывается ссорой с Б., который не так посмотрел, — с дальнейшим примирением в постели. Или курением на балконе за мыслями о таинственном поведении Д. Это, по-моему, чертовски трудно. Постоянное напряжение. Некогда побыть с собой. Впрочем, для уединения Алька использует поезда-автобусы, на которых совершает свои рывки, и музеи, на которые она подсажена крепче, чем на колу. Возможно, переходя от картины к картине, как от «человека» к «человеку», она вовсе не гаитянских едоков картофеля наблюдает, не Руанский собор в Вальпургиеву ночь, а собственный внутренний мир: какие там чувства-мысли шевелятся-формируются. Посмотрит — выйдет в музейный дворик — раскумарится — и опять ныряет в залы. Временами Алька работает: редко, однако, и коротко. Только в Амстере в кофе-шопе она задержалась на год, но это было давно.
Алька запалила джойнт, предложила мне. Я отказался. Она всегда предлагает, я всегда отказываюсь.
— В Кельн собираешься… — неопределенно говорю я.
— Схожу еще пару раз на Барни, — кивает Алька. — Он 1 сентября закроется, где я потом увижу…
— И надолго в Кельн?
— Как пойдет. А ты, значит, на неделю… на этот, на Юг свой?
— А платят как за три.
— Это с чего вдруг?
— Ну, за срочность. Что так быстро надо выезжать…
— А Юг — это где?
— Аркашон. Бискайский залив. Потом можно там встретиться, если…
— Ты вроде недавно трахался на Бискайском заливе?
— Ну, вот такое совпадение.
Алька глянула на меня с подозрением:
— Ты случайно не к той же самой намылился?
— Что ты, Алька! Конечно, нет, — вру я.
Я намылился к той же самой. Именно это и противоречит моим принципам. Трахать богатых теток за деньги — работа, требующая не только железного поршня, но и холодного сердца. А когда зовут вновь, это уже — «отношения». Чувства, что называется. Ни к чему. У меня есть чувства — к Альке. Если они закончатся (они уже не раз заканчивались, но вспыхивали новым огнем), мне нужна будет другая девушка, но непременно для длинных чувств.
До сих пор я строго следовал принципу: никогда не входить дважды в одну… Но вот на днях войду. Слишком уж у меня нет денег. А впереди зима, когда уличными выступлениями много не заработаешь. Ну и, честно говоря, баба из Аркашона радикально отличается от моей среднестатистической заказчицы. Внешностью, свежестью и вообще. Большинство моих клиенток можно с разной степенью справедливости и сожаления именовать старушками. Понятно, зачем-почему они покупают секс. Зачем платный кобель понадобился смачной тридцатилетней телке из Аркашона, для меня так и осталось прошлым летом загадкой. Обычно, прощаясь с очередной предклимактерической фурией, я чувствую себя бабочкой-медянкой, по которой проехал трейлер и загадочным образом не раздавил. А с заказчицей из устричного городка Аркашона мне, помнится, расставаться и не хотелось…
Каждый узнает только одну историю: свою. Как мальчик родился хилым, потом занялся спортом, победил всех чемпионов, заработал много золотых, подобно Пиноккио, потом стал уважаемым дедом и тренером и спокойно умер здоровым в хорошем возрасте 70 лет. Или как девочка была стройна, словно стрела Чингачгука, и тело ее пело как струнка при каждом шаге, а потом автомобиль из-за угла, и операция вроде прошла удачно, но косточки собраны по-другому, и тело не поет, а скрипит, и под этот мерный скрип осыпаются с лица лепестки кожи. Или как некто произвольного пола осознает в середине жизни, что все не так просто, и это открытие дает ему такую энергию ускорения, что все в жизни ему становится просто так. Каждому рассказывают только его историю, с гипнотическим постепенством: в полнейшем, без зазора, соответствии течению жизни. Удивительно точно: в реальном времени.
В другие жизни заглядываешь урывками. Будто взял книгу и посмотрел, что там с героем творится, на первой, пятой, двадцатой, сотой, двухсотой, двести первой и двести восемнадцатой страницах. Туда заглядываешь, где торчат закладки весточек и встреч. А свою не только читаешь подряд — ее по ходу дела на тебе же и пишут.
Я как-то глядел в микроскоп на шевеление микроорганизмов. Типа клеток, что ли, или микробов. Они там стягивались и растягивались, делились пополам, слипались и разлипались, рокировались: словом, кишели. Меня аж передернуло всего. Как бессмысленно мельтешат эти твари! Мысль о том, что конечным их смыслом являюсь я сам, в голове не укладывается. Так и быть, пусть у них есть какой-то внутренний смысл, для их внутреннего употребления. Но лично я в этом участвовать не желаю.