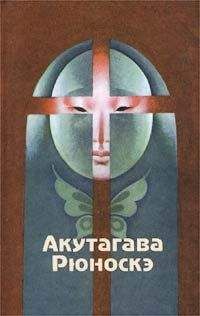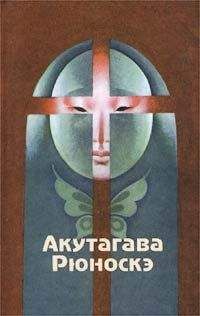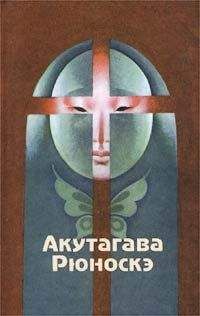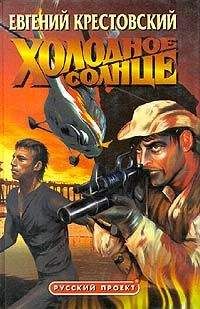Эфраим Баух - Завеса
Где эта речка с нависшими над нею кустами отцветающей сирени из его, Ормана, юности? А вот же, держала этих двух вместе среди бесконечной чуждости окружающего их мира.
Давно не опахивало Ормана такой неизбывной тоской человеческих душ.
Дошел до моря. Присел на скамью. Гигантский город готовился проводить второе тысячелетие. У моря было темно и тихо.
Этакая уютная печаль колыхала душу.
Странные мысли приходили в голову Орману в эти, казалось ему, почти не сдвигающиеся минуты, ибо ощущались невероятно тяжелыми, несущими на себе весь груз отходящих в прошлое двух тысяч лет.
Он думал о том, что с первыми проблесками человеческого сознания, еще, быть может, с трудом отличающего явь от сна, в нем уже присутствует метафизическая мера мира и, честно говоря, без этой меры мир был бы смертельно скучен.
Не произведение вещи, а изведение вещи из Ничто, из хаоса – вот, по сути, спасение мира, подспудно жаждущего в каждый миг блаженно раствориться в этом хаосе.
Говорил же Орман соседу своему по дому Цигелю:
– Только подумать: три тысячелетия здесь ни одна вещь не безродна. Вникни.
– Лучше вспомни Салтыкова-Щедрина: не вникай. – Ответил, в общем-то, не отличающийся красноречием Цигель. – А то один не вникал, не вникал, а один раз вник – и повесился.
Видно то, что высказал Орман, чем-то сильно его задело.
За дело?
Орман вдруг вспомнил о Цигеле, уже столько лет сидящем в тюрьме.
Обещал ему и давно, хотя время в тюрьме не имеет измерения, передать через его жену книгу Набокова «Приглашение на казнь». Надо бы это сделать.
Покой и тишина у моря погружали в приятную дремоту.
Хорош ли это знак на грани вступления в третье тысячелетие?
Запретная страсть страха
И тут хлынули в память воспоминания недавней поездки в Испанию на философский семинар.
Он, в шумном центре Мадрида, в тесной комнатке отеля Сан-Исидро, Святого Исидора. Постель занимала всю каморку с широким, во всю стену, застекленным окном-дверью на узкий, как щель, балкон, обремененный уймой цветных флагов.
Каморка зависала, как над пропастью, над узкой улочкой театров и баров, где с семи вечера начинался галдеж и колобродила уйма молодого народа.
И усиливалось это толпище к полночи – ревело, свистело, пело и пило, глушило и оглушало (то и дело раздавался звон разбиваемой вдребезги о стену бутылки) – до четырех-пяти утра.
Такого быстрого скопления возбужденной, захмелевшей от спиртного и жажды буянить толпы, и столь же быстрого ее рассасывания Орман в длящейся в эти часы реальности еще никогда не переживал.
И эта малая безмолвная каморка как бы провисала, окуналась в чадный водоворот гама, готового в следующий миг обернуться взрывом насилия, не раз потрясавшего Европу (а Испанию и Германию в тридцатые-сороковые) и готового в миг смести этот уголок покоя и кажущегося спасения, это гнездо бессилия, такое скудное и спесивое одновременно.
Первые дни этот гвалт вторгался в сон Ормана, казалось, неизвестно откуда, охватывал какой-то запретной страстью страха.
Звон разбитого стекла вызывал смертельный озноб «хрустальной ночи», улюлюканье оборачивалось прикладами охранников, бьющими в спину в узком проходе между двумя высокими ограждениями из колючей проволоки по дороге в «печь огненную».
С трудом, преодолевая удушье, вырвавшись из паутины сна, весь в холодном поту, Орман вскочил с постели.
До утра стоял у окна, сомнамбулически привязанный к этому шуму и звериному дыханию алкоголизированной человеческой массы, поднимающемуся к небу спертым запахом, смешанным с запашком гниющих десен и непереваренной пищи.
Затем, опустошенный, как и опустевшая улочка, выходил в нее, напоминавшую место после сражения. Осколки бутылок, груды билетов, газет, реклам, оберток, сметали темнокожие уборщики в одинаковых угрюмо-серых робах, вероятно, форме уборщиков муниципалитета Мадрида.
Он был одиноким и затерявшимся на улочке, в кафе, где два расторопных парня готовили ему кофе. Одиноким, но... выжившим. В течение дня, проходя мимо совсем близкого к гостинице дома, где жил Сервантес, посещая музеи, он как бы отходил, отмокал, возвращался в знакомое ему и так влекущее к себе культурное пространство, но каждый раз очередная ночь смывала этот слой, прокладывала жизнь, как сэндвич в «Макдоналдсе», этим варварски клокочущим кратером толпы.
Ничего не изменилось на этом континенте, думал Орман.
Гостиницу эту ему заказали до приезда. И в первые дни он пытался найти другую, но все были переполнены, и он внезапно понял, что это судьба: именно эта каморка открыла ему то, чего бы не могла открыть шикарная гостиница «Капитоль» на Гран-Виа, где он уже однажды был одни сутки пролетом из Барселоны.
И вокруг этого уже нестираемого и неотменимого впечатления, подобного мрачному, черному или полосатому, столбу хаоса, измеряющему время континента, как километровый измеряет его пространство, выстраивались все поездки-странствия Ормана по Европе.
Рафинированный слой архитектуры, скульптуры, живописи, философии, культуры еще более усугублял таящиеся под ним звериные инстинкты, подпитываемые проникающими сюда исподволь и в открытую толпами азиатов, главным образом, мусульман. Они уже не стеснялись во время намаза снимать обувь, сверкая намазанными или замазанными грязью пятками в самых сакральных местах современной Европы – у парламента или знаменитого собора.
Впервые, оказавшись в Риме в семьдесят девятом году, в дни, когда советские войска вошли в Афганистан, а иранцы захватили в заложники дипломатов американского посольства в Тегеране, Орман был потрясен, увидев у колонны Траяна высоко поднятый зад мусульманина и дырку в носке на его пятке. Рядом явно добропорядочный христианин держал на поводке собаку, которая, подняв ногу, орошала портик форума Траяна.
Как сказал Катилина «О, времена, о, нравы!»
Неотступное и благостное проклятие
Каждый раз, возвращаясь из-за границы, Орман идет к морю.
У пространства есть голос – гул вечный, то едва слышимый, то громкий до звона в ушах, и ты догадываешься, что слышишь это только ты.
Полное прекращение гула пространства, этакое безмолвное зияние, означает: оно замерло над зияющей пропастью катастрофы, которая разразится в следующий миг, и тогда только малые зверьки, живущие в плоти земли, наиболее близкие ее теплу и холоду, наиболее чувствительные ее глубинным вздохам, выбегают из нор, берут на себя ее голоса, ее призывы, и в чутком ухе их слабый скулеж отзывается громом.
Орман понимал, что это умение слушать пространство, эта особая чуткость души – пришли вместе с его рождением, стерегут каждый его шаг.
Это неотступное и благостное проклятье обозначало его существование в том потрясающем и абсолютно непонятном, несмотря на все гениальные, тут же покрывающиеся патиной и паутиной скуки объяснения, называемом жизнью.
Еще затемно, в утро этого последнего дня второго тысячелетия, Орман внезапно вскочил с постели от странного слова – «Плевако».
Знаменитый русский адвокат начала двадцатого века словно бы вынырнул укором и напутствием на пороге двадцать первого.
Почти не отрывая пера от листка, в полудремотном состоянии начертал Орман следующее:
«Размышления правнука Плевако.
1. Он утерся. Неужели я плюнул ему в лицо?
2. Не свобода, а сплошное наплевательство.
3. Разве положение обязывает – плевать?
4. Зачем швырять камень – лучше плюнуть.
5. Колодец высох. Неужели это я плюнул в него?
6. Не надо быть метким стрелком, чтобы попасть плевком в душу.
7. Однажды в самоненависти я плюнул в зеркало.
8. «Негигиенично поплевывать в руки, если нет топора», – разглагольствовал палач на профессиональной сходке.
9. Вот мы и расплевались на всю оставшуюся жизнь.
10. Тоже мне – Плевако». Опять уснул. Проснулся.
Долго всматривался в листок с десятью как бы отчужденными от него заповедями то ли назидания, то ли покаяния, похожий на обрывок сна, сам себя начертавший на огрызке бумаги.
Утро было в разгаре.
Далеко, на востоке, уже касалось земли третье тысячелетие.
ЦИГЕЛЬ
Повязанный намертво бетоном
Человек погрузился в безделье и потерял свое присутствие. Очнувшись, он стал искать направление, но оно оказывалось то флангом, то тупиком. В испуге, который, по сути, и обозначил его присутствие, он стал метаться, ища реальность, но каждый раз пробуждался, и все же оставался во сне, как существо до рождения, в оболочке, которую невозможно прорвать.
Единственно, что он испытывал, это конвульсивную боль окружения, которое в какой-то выморочности и даже отвращении пыталось отторгнуть его – человека – от себя, и в собственной беспомощности еще более затягивало связующую их пуповину вокруг его горла.
Уже за пределом понимания и даже ужаса, переходящего в немоту несуществования, последним усилием чего-то, что отличает живое присутствие от мертвого камня, человек отодрал змеиный виток пуповины, по сути, предназначенный ему одному для вливания в него жизни.