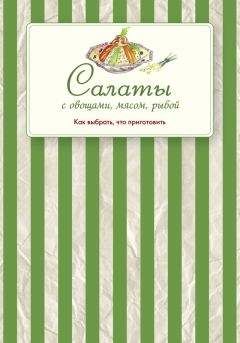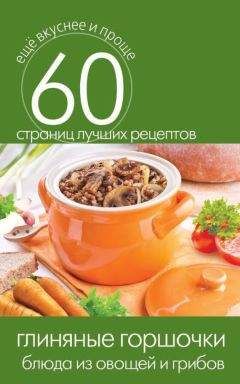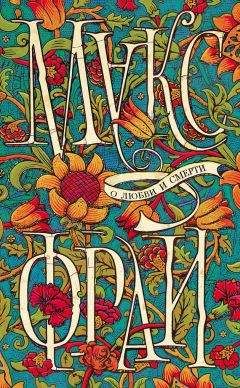Павел Крусанов - Дневник собаки Павлова
– Любовь, вино и безумие делают из человека художника, – передал его Скорнякину.
– А я думала, художниками рождаются, – сказала солдатка Вера.
– Нет, – заверил Петр. – Дар – от Бога, а искусство воплощения дара – дьявольское. Дароносец должен сам спуститься в ад, в визги его и стоны, в вонь и слизь, должен сохранить там душу и вынести из хаоса мелодию – свое искусство. Без этого дар бесплоден. Любовь, вино и безумие помогают отыскать врата адовы.
– Должно быть, ты это не сам придумал, – похвалил речь Скорнякин. – Обычно музыканты и поэты глупее своих произведений, ведь музыка и поэзия – это прозрение, происходящее помимо опыта, и стало быть, оно ничему автора не учит.
– Чего только не услышишь в пивной, – сказал Жвачин. – Теперь – моя очередь. Внимайте, друзья, как погибло знаменитое королевство логров. Никто больше вам этого не расскажет, потому что только я один знаю правду. – Андрей ненадолго задумался. – Разумеется, во всем была виновата женщина. Если кто-то знает королевство, погибшее из-за мужчины, тот может смело выйти вон. Само собой, это была не какая-нибудь замарашка с кухни Камелота, это была прима – королева Гвиневера. Коротко опишу вам ее буйный нрав... Нет, пожалуй, не стоит. Началось все как будто с пустяка: королева ввела в Камелоте новшество – по утрам она приглашала рыцарей в будуар и одевалась в их присутствии. Дальше – больше: вскоре сэры наблюдали, как перед сном королева превращается в ню. Ночью смущенные рыцари прихватывали с собой эль – остроумный сэр Гавейн называл это баром со стриптизом... Собственно, дальше неинтересно. Храбрейшие рыцари почли за благо сменить систему ценностей. Доблесть и благородство уступили место выгоде и тяге к комфорту. Вскоре субэтнос логров впал в фазу обскурации и был без труда покорен Кордовским халифатом. Вы спросите: при чем здесь королева Гвиневера? Ответ прост, друзья мои: с легкой руки этой отъявленной женщины в королевстве не осталось добродетели, а королевства без добродетели не стоят. Вот он где – марксизм!
– Пошлятинки домашний привкус, – оценил историю Скорнякин.
– Ну вот, – обиделся Жвачин. – Все хотят жениться на красивых. А некрасивых-то куда?
Глава 3
Параллельная версия, или некоторые дополнения к каталогу героев
В стране Гипербореев
Есть остров Петербург,
И музы бьют ногами,
Хотя давно мертвы.
Ваня Тупотилов стоял под душем и наблюдал, как намокают, темнеют и распрямляются внизу его живота пушистые волосяные завитки. Жуир, беспечный мажор, мастер вымирающего жанра жизни, он держал за правило: перед тем, как отправиться в/на/по/к – туда, где возможны встречи с женщинами, непременно привести себя в полный гигиенический порядок. Тупотилов собирался в «Пулковскую» – на работу. Выражение лица его было сосредоточенное, но в действительности Ваня ни о чем не думал – его редко озаряли ясные откровения жизни, догадки о законах ее действия. Если же проскальзывал в голове быстрый хвост мысли, то казалось беспокойным, неоправданно хлопотным ловить и вытягивать на свет из путаных мозговых нор эту юркую, мелькающую тварь. Тупотилов не думал – он грезил.
Мнилось Ване, что вернулись еще не поросшие муравой золотые времена фарцовки, когда иноземцы (на арго мажоров – «тупые») на деревянные рубли и кожаные полтинники меняли одежду («кишки»), промышленную мелочь или валюту. Случалось, жулили так: благодаря известному сходству югославских пятидесятидинарных банкнот с советскими полусотнями находчивые утюги и мажоры платили за товар деньгами, имевшими хождение лишь на территории балканской страны, поставлявшей в Россию консервированную ветчину. Потом клерки в туристических компаниях наладили инструктаж, и тупые среди «тупых» перевелись. С тех пор дверь клозета в квартире Тупотилова была оклеена денежными знаками страны, чья аббревиатура – СФРЮ – удачно звукоподражала протоветчине. Грезилось Ване, что вернулась дивная пора, что срывает он с двери бумажки и объегоривает «тупых», скупая у них по курсу десятилетней давности баки, чухонки, бундес-марки, паунды... Он богат! С коньяком, букетом роз и тугим бумажником идет Ваня к неугомонной Рите-Пирожку, которая однажды выручила Тупотилова крупной бессрочной ссудой и так заполучила должника в бессрочное пользование. Пирожок, страдающая избытком плоти, открывает дверь и, не веря глазам, со словами: «Розы, ешкин кот!» – шлепает ладонями по могучим бедрам. Большая, бессильная грудь мягко плещется в вырезе халата. Через миг Ритины пальцы привычно тянутся к пряжке Ваниного ремня. Но Тупотилов пресекает наезд бдительной рукой обладателя пятого дана по кунг-фу. Раскрывается бумажник, Тупотилов отсчитывает тысячи и сует их Пирожку в распах халата. Деньги слетают на коричневую лакировку паркета – это красиво. Ваня протягивает Пирожку букет из четырех роз. Следом появляется коньяк: «Подружкам оставь – поминальный...»
В этом месте воображение Тупотилова малодушно замялось. На убийство Риты-Пирожка, этого бесстыдного, хищного зверька, принявшего образ степной плодородной Афродиты, Ваня не мог решиться даже в помыслах.
В мажоре погибал артист.
После двухнедельной оттепели в Петербург, как генерал в солдатский бордель, заглянул строгий морозец. Февраль вспомнил службу, подтянулся, застегнул мундир на все пуговицы. Стараясь не поскользнуться на ледяной корочке, Тупотилов, с болтающимся на груди пустым футляром от «Никона», трусил по Московскому проспекту. По пути Ваня выкурил сигарету с подружкой, торговавшей всем подряд в коммерческом ларьке на углу универмага (наряженное под флирт деловое знакомство – через этот ларек Тупотилов не раз продавал отфарцованные вещи, – впрочем, часто Ваня увлекался и переставал понимать: дело – это причина флирта или предлог?), зашел в кафе «Меридиан» и выкупил у пенсионера-гардеробщика две медали с чеканным профилем Сталина, удачно сторговал официанту Кузе ботинки из желтой кожи растительного крашения и только после этого зябким подземным переходом, выложенным заиндевелыми, как стенки морозильной камеры, гранитными плитами, направился к «Пулковской».
Сверху сыпалась редкая снежная крупа. Небо над хрупким заледенелым городом неспешно текло куда-то на юг, будто было широкой рекой, а Петербург, запрокинув лицо, лежал на дне ее. Тупотилов не замечал небесной реки – при виде открытых пространств его городская душа слабела и бездомно тосковала.
Тупотилов прошел мимо ливрейного швейцара в теплый, застланный немым паласом холл. В глубине его, в преломлении стеклянных дверей, мелькнул партикулярный пиджак старлея – мужа бывшей путаны Светки. Оперуполномоченный был мздоимец. Тупотилов его не уважал. Свернув к ресторану, Ваня, как торговый корабль в вечерний порт, вошел в празднично расцвеченный полумрак, где слышались смех, выразительная русская речь, гласнообильное чухонское лопотанье, и где белые рубашки халдеев в лучах хитроумных ламп светились, словно фосфоресцирующие медузы.
Плечо Андрея Жвачина, покрытое рыжей кожей дедовского пальто, тяжело давил ремень сумки. В сумке лежали три продовольственных заказа с тушенкой, китайским колбасным фаршем «Великая стена» и дробленой гречкой. Заказы взяла на службе Варвара Платоновна – она работала в «Электронстандарте», играющем в гляделки с волоокой (дымчатые стекла) матроной «Пулковской». Жвачин едва успел выйти на Московский проспект, как тут же столкнулся с Тупотиловым. Ваня распахнул объятия. Жвачин считал себя умнее Тупотилова, поэтому сдержанно подал руку.
– А в валютник?.. – спросил Ваня, поправляя на груди камуфляжный «Никон». – В валютник-то пойдем?
Андрей обещал солдатке Вере не задерживаться, но он был своему слову никто. Нырнули в стылый подземный переход. По пути говорили шутливо и о пустом, как и следует случайно сошедшимся людям, друг к другу благоволящим в час досуга, но судьбой друг друга не увлеченным.
В холле «Пулковской» неожиданно возник москвич Сяков, который сосредоточенно изучал у регистрационной стойки гостиничный счет. С любого ракурса Сякова узнавали по голове, имевшей выразительную форму давленой груши. Причиной тому явилась рано открывшаяся тяга к чтению. Он читал постоянно, по большей части лежа, подпирая голову кулаком, – в тех височных и заушных местах, где кулак поддерживал неокрепший детский череп, образовались отчетливые вмятины.
Сяков был давним знакомым Исполатева по археологическим экспедициям в Нимфей. С той поры прошло немало лет, и за это время Сяков проявил себя достойным сыном своего полнокровного, спешащего заработать все деньги на свете города – окончил университет, выпустил прыткий роман и в результате закрученной улиткой интриги вошел в состав совета директоров издательской корпорации «Речь». Сяков прибыл в СПб по службе – как представитель «Речи», он вел переговоры с Петербургской епархией, британским отделением международной ассоциации «Христианская миссия» и финской целлюлозно-бумажной фирмой о создании межконфессионального совместного предприятия «Библейская комиссия». Вчера подписанием соглашения о намерениях переговоры успешно завершились.