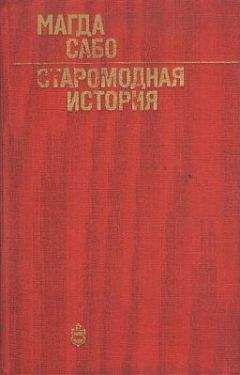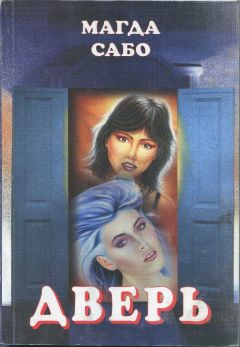Тони Хендра - Отец Джо
Я всех этих тонкостей тогда еще не улавливал — дети в этом отношении обычно спокойней и обзаводятся предубеждениями уже по дороге во взрослую жизнь. В тот момент я не очень-то понимал, что к чему, и мое отношение к подобным вещам сводилось к компромиссу, а то и к откровенному их неприятию.
Вот вам пример: каждый год пятого ноября в Англии отмечается День Гая Фокса — заговорщика из католиков, который в начале семнадцатого века чуть было не взорвал Палату Лордов. В этот день тысячи чучел Фокса сжигаются по всей стране. И хотя этот Гай Фокс, гнусный террорист и противник демократических сил, получил по заслугам, обычай вот уже несколько столетий воплощает собой предубеждения против католиков, снова и снова подогревая страсти. Так что каждое воскресенье перед Днем Гая Фокса католические священники осуждали этот обычай и призывали католиков воздержаться от участия в нем. Для меня же, любителя пиротехнических эффектов, перспектива остаться в стороне от огромного костра сама по себе была огромным несчастьем, означавшим также и то, что я пропущу поистине грандиозную часть праздника — фейерверки.
В семьях со смешанными браками подобное здорово отравляло жизнь. Мой отец принял следующее решение: фейерверкам — да, дети имеют право на фейерверки, небольшому костру — да (я же всегда умудрялся пробраться ночью к костру и подкинуть дров, а то и сунуть резиновые покрышки), чучелу — нет, чтобы никаких там «парней» («парнем» называли чучело мистера Фокса). Когда же мать возражала — дескать, все равно мы, хоть и символически, но сжигаем католика — отец отвечал ей, что да, сжигаем, но ведь и каждый фейерверк означает, что мы символически взрываем Палату Лордов.
Так что мы праздновали то же самое предубеждение, благодаря которому в меня по дороге из школы швыряли камнями. То же самое, из-за которого добрые сельчане бормотали проклятия в адрес ленивых пропойц-ирландцев, отказываясь сдавать им жилье и обслуживать в магазинах. Я считал такое отношение оскорбительным как со стороны сельчан, так и со стороны матери, к которой это относилось ровно в той степени, в какой она соглашалась с ними. Конечно, мне бы хотелось представить все так, будто в четырнадцать я уже отличался недюжинным умом и до всего додумался сам. Однако на самом деле я где-то вычитал о порицании дискриминации людей, которые ничего не имели за душой и выполняли работу, на которую никто другой не соглашался.
Однако я и не подозревал, что дело тут было далеко не только в альтруизме, — оказалось, что встать на сторону ирландцев меня побудили куда более крепкие узы.
Мама внушала, чтобы мы держались от парней за углом подальше, но, припертая к стенке, оправдывалась тем, что лишь оберегает нас, детей. (Вот уж в церкви это ей удавалось — она держалась как можно дальше от поддатых собратьев по вере, пересаживаясь на ряд или два, если те садились слишком близко.) И все же за материнскими протестами скрывалось нечто гораздо более занятное.
Мама всегда твердила о том, что ее девичья фамилия, МакГоверн — шотландская, хотя приставка «мак» пишется на самый что ни на есть ирландский манер. Поскольку мама и четверо ее сестер родились в Глазго, то какая-то доля правды в этом была. Но старшая сестра, не такая щепетильная в вопросах происхождения, как-то сказала ей: «Если у кошки котята в духовке, что же получается, они — печенья?» И все же мама стояла на своем — мы шотландцы и гордимся этим, och awa’ the noo.[2] Конечно, к шотландцам британцы испытывали чувства немногим более теплые, чем к ирландцам, однако мама со своим англо-саксонским предубеждением против кельтов рассудила, что пусть уж лучше ее высмеивают как шотландку, нежели презирают как ирландку.
Однажды, когда мне было что-то около десяти, отец принес домой книгу о шотландской клетке — он с дотошностью выверял всевозможные геральдические и рыцарские символы для росписи витражей — и меня очень заинтересовали эти роскошные узоры древних аристократических родов. С такими-то глубокими корнями у нас наверняка есть свой? И мы могли бы носить килт, och awa’ the noo. Приставая к матери с расспросами, я совсем сбил ее с толку. «Э-э… вот этот», — сказала она, ткнув в клетку клана Кэмпбелл. Я возразил: «Ведь это клан Кэмпбеллов». «Ну и что, — нашлась мать. — Мы, МакГоверны — ответвление клана Кэмпбеллов».
И только позже, когда я переехал в Нью-Йорк, где повидал немало МакГовернов, каждый из которых был чистой воды ирландцем, мне стало ясно — мое «шотландское ответвление Кэмбеллов» по материнской линии никогда не выбиралось за пределы ирландского графства Лейтрим.
Если бы я с самого детства знал, сколько во мне ирландской крови, я бы не обрадовался. Однако и принадлежность к католикам особой радости не вызывала. И дело было не столько в неприятии католиков, сколько во все углублявшейся пропасти между тем, что я слышал в церкви, и тем, чему нас учили в школе. Нельзя сказать, что мама не пыталась воспрепятствовать этому. Согласно брачному контракту, Церковь обязывала «неверную» сторону подписаться под тем, что отпрыски, рожденные в браке, должны будут воспитываться в истинной вере. И по возможности посещать католическую школу.
Так что с пяти до восьми лет я ходил к монахиням, в моем случае доминиканским — последовательницам неустрашимого испанского проповедника Доминика де Гусмана (он же святой Доминик), «кары господней» катаров, сыгравшего свою роль в формировании духа Инквизиции. Имена добрых сестер озадачивали меня: сестра Мэри Джозеф, сестра Мэри Фредерик, сестра Мэри Мартин… И хотя до приговора нас, первоклашек, к аутодафе дело не дошло, сестры вне всякого сомнения пользовались кое-какими инквизиторскими приемчиками, дабы привить нам единственно истинную веру; надо признать, что в этом они преуспели. («Для чего Господь сотворил тебя?» — «Господь сотворил меня, дабы я знал о нем, возлюбил его, служил ему в этом мире и счастливо пребывал с ним в мире ином».) Это всего несколько положений из катехизиса; пусть они и были выше понимания шестилетнего ребенка, спустя полвека я без запинки повторю их, разбуди меня хоть среди ночи.
После добрых сестер я попал к добрым братьям.
Эти суровые парни заведовали притоном, носившим кроткое имя святого Колумбы, и квартировали в развалинах старинного викторианского особняка. Названия их ордена я не знал, но мне нравилось думать, что это, скажем, орден святого Алоизия Колосажателя, хотя скорее всего они именовались какими-нибудь братьями святого Франциска Ассизского. Братья все как один были ирландцами; за все время отношений с Церковью, когда я то возвращался в ее лоно, то отходил, я не встречал более нечестивого сброда. Они одевались в светскую одежду, носили светские прически и, что было заметно любому, не соблюдали никаких религиозных обрядов. Они даже не скрывали свою истинную сущность — либо подпольной ячейки ИРА, либо банды организованной преступности, отличавшейся особой жестокостью.
Они избивали нас ремнями, избивали металлическими линейками, и не плашмя, а ребром. На мальчишек, забиравшихся к ним в комнаты, они спускали собак, во время заутрени от них разило пивом. Они науськивали старших парней, особенно тех, у кого были ирландские имена, чтобы они выбивали дурь из младших ad majoram Dei gloriam.[3] Все это должно было закалить нас, мальчишек семи-восьми лет, превратить в добрых солдат Христовых. К религии они прибегали только затем, чтобы запугать; адское пламя грозило в случае любого нарушения или проступка, особенно сурово карался смертный грех пребывания в непосредственной близости от святого брата с похмельной головой. Однако страх проклятия имел ограниченную силу — мне было ясно, что я и так уже в форменном аду.
Споры между нами, мальчишками, разрешались тут же, на месте, посредством боксерских поединков, но не в мягких тренировочных, а в тяжеленных перчатках для ринга. В первый раз я со слезами на глазах возразил, что не умею боксировать, и попросил заменить боксирование на соревнования в беге. На что брат Кольм,[4] наставник, прорычал: «Ты уладишь спор в перчатках, как то предписано Христом». Я мысленно пробежался по страницам Евангелия в поисках эпизодов, где Иисус пару раз выходит на ринг против фарисеев и саддукеев. Но ничего подобного не припомнил Тем временем другой мальчик, мой противник, ударил меня и отправил в нокаут.
Каждый раз я являлся домой то с расквашенным носом, то с задницей в рубцах от ремня, то с перебитой рукой, замотанной носовым платком — в заведении святого Колумбы медсестер не было, и солдаты Христа оказывали первую помощь как могли, и родители решили, что контракт там или не контракт, а моему католическому воспитанию пришел конец.
Первое протестантское заведение, куда я попал, было небольшой приготовительной школой при англиканской церкви; школа претендовала на статус первоклассной, но по своему местонахождению — в населенном нуворишами спальном пригороде к северу от Лондона — до статуса явно не дотягивала. Школу я недолюбливал и, возможно, в качестве расплаты некий поборник образования с небес наслал на меня демона мелкого бытового преступления — я превратился в малолетнего преступника, как нельзя лучше вписавшегося в стереотип коварного ирландца-католика.