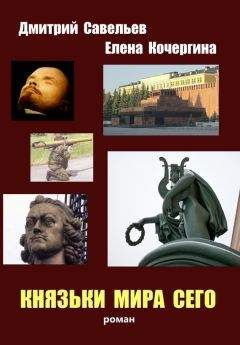Сын Ок Ким - Сеул, зима 1964 года
Профессор отрицательно покачал головой. Улыбка всё так же не сходила с его лица.
— Вас это не забавляет?
— А тебя?
— Мне это кажется смешным.
Меня это забавляло. Случилось всё ранней весной через год после начала войны[6]. Я ходил в шестой класс начальной школы, и жили мы тогда все вместе — мать, сестра, брат и я. Хотя военные действия были в самом разгаре, Ёсу[7], где мы жили, находился достаточно далеко от линии фронта — на самом юге страны, поэтому следы пребывания северо-корейской армии сравнительно быстро исчезали. Почти все те, кто в своё время покинул город, возвратились обратно и, наспех сколотив на месте разбомбленных домов дощатые хибарки, старались вернуться к своим довоенным занятиям.
Однако это было делом нелёгким. А всё потому, что улицы были наводнены толпами беженцев, наехавших с севера страны, к тому же отправленные на дальние острова рыболовные суда вернулись назад, но всё никак не могли войти в рабочий режим. Многие люди прилежно посещали церковь, где можно было получить продовольственный паёк. Я и моя сестра — третьекурсница торговой вечерней школы совместного обучения[8], тоже ходили в церковь, из окон которой была видна гавань. Но нельзя сказать, что мы шли туда только ради пайка.
Это была самая большая церковь в Ёсу. С её двора была видна площадь, сразу за ней начиналась гавань, а за гаванью колыхалось расстилающееся до острова Комундо море, от которого неизменно веяло холодом. Мы с сестрой частенько, стоя бок о бок, смотрели на морскую гладь, отливающую холодным металлическим блеском. В такие моменты я чувствовал, как моё юное сердце охватывает умиротворение, и я, не замечая того, крепко сжимал тоненькие пальцы сестры. Было бы вернее сказать, что нам с сестрой нравилось ходить сюда именно потому, что можно было дышать свежим воздухом во дворе церкви, а не стоять на коленях на стылом деревянном полу, где вечно зябли ноги. Хотя не буду лукавить, паёк тоже играл не последнюю роль.
В один из дней той ранней весны в церкви проходила большая служба во имя Возрождения. Тогда такие богослужения в стране, прогневившей Бога своими прегрешениями и наказанной войной, были весьма популярны, но тут случай был особый. Говорили, что приехавший проводить эту службу пастор собственноручно отрезал свой детородный орган, когда ему было где-то около двадцати лет. И пошёл он на это только потому, что Господь ему так велел.
Была первая ночь богослужения. Народу собралось великое множество, скорей всего, благодаря активной пропаганде.
Служба проходила на пустыре: раньше, до бомбёжки, там стоял завод по производству искусственного льда, а буквально в нескольких шагах была пристань, где волны с плеском накатывали на берег и отступали обратно. Прислушиваясь к шуму волн, мощные фонари светили так ярко, что казалось, будто сейчас день. Благодаря голосам, распевающим хвалебные гимны, и теплу, исходящему от тел разгорячённых людей, ночная прохлада ранней весны совершенно не ощущалась. Взявшись за руки, мы с сестрой протолкались через толпу и уселись прямо перед трибуной, где стоял пастор.
Ох уж эта служба — уже с вечера я не мог усидеть на месте, ожидая её начала. Сестра, похоже, ждала прихода ночи ещё нетерпеливее, чем я; это было видно по тому, как она хихикала, прижимая меня к себе, когда я обзывал пастора отвратительным и мерзким типом. Старший брат с шумом ворочался на своём чердаке, как будто предстоящая служба и у него вызывала какой-то интерес. Мы с сестрой ужасно радовались, заметив, что даже на лице матери, обычно угрюмом, промелькнула улыбка, которая появлялась у неё, когда она видела что-либо необыкновенное. Я тогда ещё подумал: «А… вот, значит, когда мама улыбается! Когда видит что-то чудное!»
Пастор, ставший объектом всеобщего внимания, совершенно ничем не отличался от обычного человека, ну разве что был слегка бледен. Хотя по сравнению с моим старшим братом, который редко выходил из дома, он выглядел очень даже здоровым, поэтому сам собой напрашивался вывод, что это был самый что ни на есть обыкновенный человек. Невысокого роста, с глазками-щёлочками, от чего взгляд казался пронзительно-колючим. Судя по лицу, на котором практически не было морщин, ему было лет тридцать пять-тридцать шесть. Одет он был в белую рубашку с чёрным галстуком, болтавшимся на груди. Поначалу на нём был чёрный костюм, но когда звуки хвалебных гимнов с ликованием взмыли ввысь, он сбросил пиджак.
Не только у меня, но и у взрослых в глазах читалось недоверие: «Неужели этот человек — нет, правда, ну просто не верится, — неужели он своими собственными руками взял нож и отрезал своё мужское достоинство?!» Я скорее бы поверил, что на такое мог пойти стоящий рядом с пастором американец необычайно высокого роста с вытянутым лицом. Он гораздо больше подходил для этой роли. Той ночью я всё никак не мог избавиться от наваждения, что именно этот американец отрезал своё «орудие». В конце концов, я напрочь забыл, почему проповедник пошёл на такое дело, и только после того, как спросил у сестры, сообразил, что к чему. Это он ради Господа нашего… нет, не так… говорят, в него вошёл Святой Дух — и он решился на такое. Я вдруг представил, что ко мне тоже в какой-то момент явится Святой Дух, и тогда, быть может, придётся своими собственными руками перерезать себе, ну например, шею. От таких мыслей по спине побежали мурашки. И когда среди оглушительного грома рукоплесканий, звучащих в такт и унисон мелодии хвалебных гимнов вдруг наступала оглушительная тишина, меня охватывала жуткая тоска по тихому плеску морской волны. Прикусив до боли язык, я сильно жалел, что пришёл сюда и к тому же уселся в первых рядах.
Только по окончании той кошмарной службы я пришёл в себя. Мне ещё ни разу не приходилось так потеть, как в ту злополучную ночь. И даже потом, когда я вспоминал осипший голос пастора, взывающий: «О, любимые мои братья и сёстры!», я чувствовал, как пот струйками бежит у меня по спине.
Краем глаза я заметил, что наш безбровый студент к тому времени уже успел найти стул и усесться на него. Лицо парня отливало алюминиевой белизной.
— Когда-то давным-давно знал я одного проповедника… — ни с того, ни с сего начал я неторопливо своё повествование.
— А? — вопросительно вскинул голову профессор.
— Много-много лет назад жил один проповедник… — я понизил голос. — Так вот, говорят, этот замечательный человек отрезал свой детородный орган!
— Ха-ха-ха! — изумлённо расхохотался профессор. — И зачем? Или это тоже испытание силы воли?
— Вы смеётесь! Я же вижу!
— Нет, ну ты только взгляни на него…
Видно было, что мой собеседник мне симпатизирует. Я в свою очередь тоже питал к нему тёплые чувства.
Профессор снова улыбнулся, но улыбка получилась какой-то натянутой, словно его что-то тревожило. Сегодня он был явно не в своей тарелке. Такой вывод напрашивался сам собой, если вспомнить, как странно он повёл себя, когда я встретил его у ворот университета и предложил выпить по чашке чая. Профессор сначала слегка замялся, но тут же ухватился за моё предложение, как утопающий за соломинку, и даже опередил меня, проскользнув в чайную первым.
Моя работа по драматургам елизаветинского периода, которую я начал писать на прошлых каникулах, была закончена; и первый кому я хотел показать её перед тем, как сдать своему научному руководителю, был профессор. И не только потому, что во время работы я несколько раз обращался к нему за справочной литературой, но ещё и потому, что он относился ко мне, как к родному сыну. Именно поэтому я привёл профессора сюда, в чайную, но, когда увидел, что он сегодня явно не в духе, у меня не поднялась рука выложить перед ним стопку своих рукописей, и я решил отложить это дело до более удобного случая.
— Похоже, вам нравится это выражение «тренировка силы воли»?
— Хм… И нравится, и нет… — Профессор снова улыбнулся, что было совсем на него не похоже.
Хотя он всегда вел себя очень сдержано, чуть ли не чопорно, что наблюдается преимущественно у людей небольшого роста, эта его особенность не выглядела нелепой или смешной, и даже наоборот — от него веяло некой утончённостью, которую он, говорят, приобрёл, нюхнув заграничного воздуха. Однако чувствовалось, что сегодня этот его образ как-то не клеился. Отчего-то сейчас его поведение напоминало низкопробный спектакль, и это почему-то пугало и настораживало. Профессор, похоже, заметил такое моё состояние. Мне показалось, он хотел поменять тему разговора, поэтому я выпалил первое, что пришло на ум:
— Говорят, супруга профессора Пака с кафедры социологии скончалась после долгой болезни.
— …
Лицо профессора вдруг застыло, он плотно сжал губы и взглянул на меня с таким подозрением, что мне стало не по себе.

![Сын Ок Ким - Сеул, зима 1964 года [неофициальный перевод]](/uploads/posts/books/127080/127080.jpg)