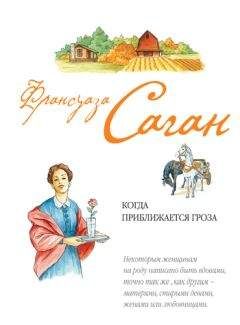Франсуаза Саган - Ангел-хранитель
Ну вот, я уже начинаю думать, как пишу. Будь у меня хоть на йоту таланта либо литературных амбиций, я б, вероятно, была довольна. Увы! Я взглянула на Льюиса. Он снова открыл глаза и внимательно меня рассматривал.
– Как вас зовут?
– Дороти. Дороти Сеймур. Разве я не говорила?
– Нет.
Я сидела у него в ногах. Через окно в комнату вливался вечерний воздух, пропитанный запахами моря. Я вдыхала эти запахи уже сорок пять лет, и все эти годы они не менялись, почти жестокие в своей неизменности. Сколько мне еще вдыхать их свободно и бездумно, скоро ли начнется ностальгия по прожитым годам, по поцелуям, по теплу мужского тела? Надо выйти замуж за Пола. Пора расставаться с этой безграничной верой в собственное здоровье и душевное равновесие. Хорошо чувствуешь себя в своей шкуре, пока есть человек, который эту шкуру гладит, согревает ее своим теплом. А что потом? Вот именно, что потом? Начнутся визиты к психиатрам? Одна мысль об этом вызывает во мне отвращение.
– Что-то вы погрустнели, – заметил Льюис.
Он взял мою руку и принялся рассматривать. Я тоже уставилась на нее. Мы оба изучали ее с неожиданным интересом. Он – потому что ее не знал, я – потому что в руках Льюиса она сделалась иной: стала похожа на вещь, словно больше мне не принадлежала. Еще никто не брал меня за руку столь странно.
– Сколько вам лет? – спросил он.
К моему глубокому удивлению, я ответила правду:
– Сорок пять.
– Вам повезло.
Я посмотрела на него с удивлением. Ему-то было лет двадцать шесть, не больше.
– Повезло? Почему?
– Повезло, что дожили до этих лет. Это ведь здорово.
Он отпустил мою ладонь. Вернее (так мне чудилось), возвратил ее запястью. Потом отвернулся и закрыл глаза. Я встала.
– Спокойной ночи, Льюис.
– Спокойной ночи, Дороти Сеймур, – нежно ответил он.
Я тихо прикрыла за собой дверь и спустилась на террасу. Мне почему-то было очень хорошо.
Глава 3
– «Понимаешь, это не пройдет. Это никогда у меня не пройдет.
– Все проходит.
– Нет. Нас связывает что-то неумолимое, как судьба. Ты сам ведь чувствуешь. Ты… ты должен это знать. Ты не можешь не знать!»
Тут я прервала сей страстный диалог – мое очередное творение – и вопросительно взглянула на Льюиса. Он приподнял брови и улыбнулся.
– Вы действительно верите в судьбу, в неумолимое?
– Речь не обо мне, а о Ференце Листе и…
– Да, но я спрашиваю о вас.
Я рассмеялась. Да, порой жизнь казалась мне неумолимой, и о некоторых чувствах я думала, что они никогда не иссякнут. Но вот мне сорок пять, я сижу в своем саду, у меня прекрасное настроение, и я никого не люблю.
– Раньше верила. А вы?
– Еще нет.
Он закрыл глаза. Постепенно он сделался разговорчивее, и мы стали рассказывать друг другу о себе. Вечерами, когда я возвращалась с работы, Льюис, опираясь на две палки, спускался на террасу и усаживался в кресло-качалку. Потягивая скотч, мы наблюдали, как сгущаются сумерки.
Мне было приятно, приходя домой, видеть его. Он был спокоен и странен, весел и мрачен одновременно, он походил на какого-то неведомого зверька. Приятно, но не больше. Я отнюдь не была влюблена. Мало того, при других обстоятельствах меня бы его красота пугала, отталкивала. Он был слишком тонко отделан, слишком строен, слишком совершенен. Нет, вовсе не по-женски, но он напоминал мне избранную расу, о которой писал Пруст: волосы с отливом, как перья, бархатная кожа. Словом, ему недоставало той детской суровости, которая так нравится мне в мужчинах. Я даже сомневалась, бреется ли он, есть ли в том нужда.
О себе он рассказал, что родился в пуританской семье на севере Штатов. Учился кое-как кое-чему, потом ушел из дома, перебивался случайными заработками, как все молодые бродяги. Добрался до Сан-Франциско. Познакомился там с другими лоботрясами той же породы. Добрая доза ЛСД, прогулка на машине, драка. В итоге очутился у меня. Выздоровеет, снова уйдет куда глаза глядят. Мы часто беседовали с ним о жизни, об искусстве – в его образовании имелись чудовищные пробелы.
Отношения наши оставались сугубо платоническими – полная нелепость с точки зрения толпы. Льюис часто расспрашивал о моих прежних романах, но ни словом не обмолвился о своих. Меня это слегка настораживало. Все-таки странно для его лет. Слова «женщины» и «мужчины» он произносил одинаково – равнодушно и пресно. А я в свои сорок пять не могла выговорить «мужчина» без легкой нотки нежности в голосе и сладкого отзвука в памяти. Возле него я порой ощущала себя бесстыжей.
– Когда жизнь показалась вам неумолимой? – спросил Льюис. – Когда ушел ваш первый муж?
– О Господи, конечно, нет. Наоборот, тогда я почувствовала скорее облегчение. Только представьте себе: абстрактная живопись с утра до ночи! Ужасно утомляет. А вот когда ушел Фрэнк… Тогда – да, тогда я была как раненый зверь.
– Кто такой Фрэнк? Ваш второй муж?
– Да, второй. В нем не было ничего особенного, но столько жизнелюбия, нежности, счастья…
– Он бросил вас?
– В него влюбилась Луэлла Шримп.
Льюис вопросительно поднял брови.
– Только не говорите, что вы никогда не слышали о такой актрисе – Луэлла Шримп.
Он неопределенно хмыкнул. Я была возмущена, однако не стала настаивать.
– Ну, в общем, Фрэнку это страшно польстило, он был в упоении и оставил меня, чтобы на ней жениться. Тогда-то мне, как Мари д'Агуль, показалось, что это никогда не пройдет. Я так думала больше года. Вы удивлены?
– Нет. А что было дальше?
– Два года спустя Луэлла влюбилась в другого, а Фрэнка бросила. Он снял три неудачных фильма и начал пить. Все. Точка…
Мы помолчали. Льюис слегка застонал и попытался встать. Я встревожилась.
– Вам плохо?
– Болит. Такое впечатление, что никогда не смогу ходить.
Я представила себе, как он остается калекой на всю жизнь у меня. Забавно, однако такая перспектива не показалась мне ни нелепой, ни неприятной. Должно быть, я дожила до возраста, когда человеку пора взвалить на себя какую-нибудь ношу. Ну что ж, я бы справилась. Несла бы ее долго и упорно.
– Тогда вы останетесь жить здесь, – ответила я весело. – А когда у вас выпадут все зубы, я буду варить вам каши.
– Почему у меня выпадут зубы?
– Говорят, так бывает, когда больные долго лежат. По-моему, это парадокс. Понятнее, если б они выпадали у тех, кто стоит, – под действием силы тяжести. Так ведь нет.
Он искоса посмотрел на меня, почти как Пол, но не так сурово.
– Какая вы странная, – произнес он. – Мне невозможно расстаться с вами.
Он прикрыл веки и бесцветным голосом попросил почитать стихи. Я пошла поискать что-нибудь по его вкусу. Это стало уже традицией. Тихо и нежно, чтобы не потревожить и не разбудить, я читала стихи Лорки об Уолте Уитмене:
Есть пляжи на небе, где от повседневности
можно укрыться,
и бренные есть, кого на заре
не заставишь вернуться…
Глава 4
Мне сообщили об этом в самый разгар дня. Я диктовала секретарше трепетный диалог Мари д'Агуль и Ференца Листа, сочиненный вашей покорной слугой. Работала я без подъема, узнав накануне, что на роль Листа приглашен Нодин Дьюк. Я даже не решалась представить этого черноволосого атлета в образе великого музыканта. Но у кинематографа свои заблуждения – фатальные, смехотворные, примитивные. Мы как раз дошли до «чего-то непоправимого», и моя секретарша – она вообще ужасно чувствительная – залилась слезами, когда зазвонил телефон. Она сняла трубку, шумно высморкалась и повернулась ко мне:
– Мистер Пол Брет, мэм, что-то срочное.
Я взяла трубку.
– Дороти, вы уже знаете?
– Нет. Думаю, что нет.
– Дорогая Дороти… Умер Фрэнк.
Я ничего не ответила. Он встревоженно продолжал:
– Фрэнк Сеймур. Ваш бывший муж. Он покончил с собой сегодня ночью.
– Не может быть, – сказала я.
Я действительно так думала. У Фрэнка сроду не было ни капли мужества. Множество достоинств, но только не мужество. А чтобы покончить с собой, как мне кажется, нужно быть очень мужественным. Достаточно вспомнить о тысячах людей, для которых самоубийство – единственный выход, но они не могут решиться.
– Да, – донесся до меня голос Пола, – сегодня утром он покончил с собой в дешевом мотеле неподалеку от вас. Он не оставил никакой записки.
Мое сердце билось медленно-медленно. Оно билось все медленней и все сильней. Фрэнк… Я вспоминала, каким он был веселым, как смеялся, какая у него была кожа… Фрэнк умер… Это странно, но смерть заурядного человека потрясает сильней, чем когда умирает крупная личность. Я не могла поверить, что Фрэнка больше нет.
– Дороти… вы меня слышите?
– Слышу.
– Дороти, вам надо приехать. У него нет семьи, а Луэлла, вы знаете, сейчас в Риме. Мне очень жаль, Дороти, но надо уладить кое-какие формальности. Я сейчас заеду за вами.
Я протянула трубку своей секретарше – бог знает почему, ее зовут Кэнди[1] – и опустилась на стул. Взглянув на меня, она встала (у нее потрясающее умение чувствовать людей, из-за него она и стала для меня просто незаменимой), выдвинула ящик с надписью «Архив» и протянула мне откупоренную бутылку виски – она всегда там стоит. Машинально я сделала большой глоток. Я знаю, зачем человеку в состоянии шока предлагают выпить. Алкоголь в такой ситуации кажется столь гадким, что вызывает инстинктивный физический протест, отторжение. И это выводит из состояния отупения лучше чего угодно другого. Виски обожгло гортань, я вышла из оцепенения, охваченная ужасом.