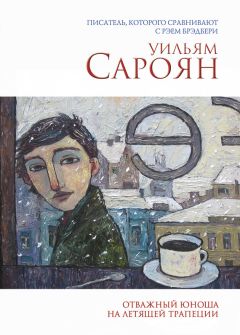Полина Дашкова - Качели (сборник)
А вот словесный портрет: «Батюшков был небольшого роста, у него были высокие плечи, впалая грудь, русые волосы, вьющиеся от природы, голубые глаза и томный взор. Оттенок меланхолии во всех чертах его лица соответствовал его бледности и мягкости его голоса, и это придавало всей его физиономии какое-то неуловимое выражение. Он обладал поэтическим воображением; еще более поэзии было в его душе. Он был энтузиаст всего прекрасного» (перевод с французского рукописи Е. Г. Пушкиной).
В начале ХIХ века поэт обязан был выглядеть бледным, томным, иметь неуловимое выражение всей своей физиономии и быть энтузиастом всего прекрасного.
«Дух пылкий и довольно странный» у пушкинского Ленского, у бедного влюбленного романтика, убитого в расцвете лет. Между прочим, в России все романтики обязаны быть последними и погибать молодыми. А что же им еще остается? Жить дома и садить капусту? Нет уж, милый, изволь соответствовать своему образу до конца.
У пушкинского Чарского, поэта из «Египетских ночей», те же проблемы: «В журналах звали его поэтом, а в лакейских – сочинителем... Зло, самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадет».
Пушкин уже перешагнул социальный барьер, отделяющий аристократа древней крови от труженика, коим является профессиональный литератор. Литературный заработок стал для него прямым источником существования. Для его старших современников проблема заработка была настоящей бедой. Родительские имения уже не давали доходов. «Добрый приятель» Онегин – просто баловень судьбы. Дядюшкино наследство спасло его от прозаической чиновничьей должности, от необходимости зарабатывать – еще не на хлеб, но уже на бобровый воротник, на дорогие безделки в своем красивом кабинете, на счастье хандрить и скучать.
Между прочим, сам образ скучающего молодого человека впервые промелькнул именно у томного Батюшкова. Вот она, бледная тень будущего пушкинского героя:
Который посреди рассеяний столицы
Тихонько замечал характеры и лицы
Забавных москвичей,
Который год зевал на балах богачей,
Зевал в концерте и в собраньи,
Зевал на скачке, на гулянье,
Везде равно зевал...
Набросок. Не более. Легкий пунктир. А вот еще пунктир, на этот раз в прозе:
«Жил на Пресненских прудах некто Н. Н., оригинал, весьма отличный от всех оригиналов московских. Всю жизнь он провел лежа, в совершенном бездействии телесном и, сколько возможно, душевном».
Тут откуда-то из вневременного далека машет вялой пухлой рукой родимая тень Ильи Ильича Обломова.
А кто первым обозвал девятнадцатый век «железным»? Батюшков, причем еще в 1809. Это определение мелькнуло в скобках в его знаменитой сатире «Видение на берегах Леты», написанной в 1809 году. Через двадцать пять лет, в стихотворении «Последний поэт», Баратынский скажет: «Век шествует своим путем железным». И уже в двадцатом, в перекличку вступит Блок:
Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век.
Хотя не такой он, в сущности, был и жестокий, и не такой железный, во всяком случае, по сравнению с двадцатым.
Сколько еще у Батюшкова этих пунктиров? Сколько теней из будущего неприкаянно бродило по страницам его записных книжек?
«Ему около тридцати лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра – ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое умирал. В походе никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнью с чудесной беспечностью, которой сам удивлялся; в мире для него все тягостно, и малейшая обязанность, какого бы рода ни была, есть тягостное бремя».
Это из записных книжек 1817 года, о самом себе. Очередной набросок автопортрета.
А это уже совсем другая проза: «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь от смеха...»
Портрет Печорина, увиденного глазами Максима Максимовича.
Странная закономерность – самые неожиданные пунктиры, самые четкие тени из будущей русской литературы появлялись у Батюшкова тогда, когда он писал о себе. В нем, живом, «не чиновном, не знатном, не богатом», в офицере трех войн, неприкаянном, одиноком человеке, уже не помещике, еще не чиновнике, сосредоточились все самые трагические и несуразные черты будущих героев Пушкина и Лермонтова. Может, родись он десятью годами позже, он бы «не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума». Однако родился он, когда родился. Поэтом сделался потому, что «ни дня без рифм, без стоп не можно проводить». Сошел с ума потому, что болезнь была в крови. И умер дважды. В 1823-м для литературы, а потом, в 1855-м, скончался в Вологде от тифозной горячки помешанный старик.
Впрочем, речь пока о молодом поэте, изобразившем самого себя в странном отрывке. Забавно, что именно на 1817 год пришелся для Батюшкова расцвет его литературной жизни. «Арзамас», знакомство с Пушкиным, выход в свет книги «Опыты в стихах и прозе». Чем не «поэтическая диетика»? И служебные дела складывались неплохо. В 1818-м Батюшкова отправили на дипломатическую службу в Италию. Вот тут бы и творить, и жить, переписывать черновики, превращать наброски и планы в нечто большее. Однако нет. Из теплой прекрасной поэтической Италии он написал Жуковскому: «Посреди всех чудес удивись перемене, которая во мне сделалась, – я вовсе не могу писать стихов».
Как раз в это время на страницах журнала «Сын отечества» появилось стихотворение молодого поэта П. А. Плетнева «Б...ов из Рима». Подписи не было, и публика приписала авторство Батюшкову. Смысл слабенькой элегии сводился к признанию поэта в своем творческом бессилии. Батюшков воспринял публикацию как пасквиль и одновременно как злое пророчество. Он отправил на родину такой ответ:
«Г.г. издателям журнала „Сын отечества“ и других русских журналов.
Прошу Вас покорнейше известить Ваших читателей, что я не принимал, не принимаю и не буду принимать ни малейшего участия в издании журнала „Сын отечества“... Дабы впредь избежать и тени подозрения, объявляю, что я, в бытность мою в чужих краях, ничего не писал и ничего не буду печатать под моим именем».
Через некоторое время он подает прошение царю – разрешить ему удалиться в монастырь и постричься в монахи. На это следует ответ Александра I:
«1. Объявить Батюшкову, что прежде изъявления согласия на пострижение, государю угодно, чтобы он ехал лечиться в Дерпт, а может быть, и далее.
2. Выдать Жуковскому пожалование 500 червонцев на путевые издержки Батюшкова.
3. Назначить для сопровождения курьера».
По дороге он постоянно сбегал, то в лес, то в поле. Его находили спящим где-нибудь на обочине, с трудом возвращали. Василий Андреевич Жуковский и царский курьер, сопровождавшие его, намучились с ним.
Дольше всех не мог поверить в безумие Батюшкова Пушкин. В 1822-м он писал Вяземскому из Петербурга в Москву: «Мне писали, что Батюшков помешался: быть нельзя; уничтожь это вранье».
Брату Льву в 1823-м, из Кишинева в Петербург: «Батюшков в Крыму. Орлов с ним видался часто. Кажется мне, он от ума шутит».
В 1823-м Батюшков трижды покушался на самоубийство, сжег свою библиотеку. В 1824-м сестра увезла его в Саксонию, в психиатрическую лечебницу. Летом 1828го его вернули на родину, уже без малейшей надежды на выздоровление. К весне 1830-го он был при смерти.
Пушкин – Вяземскому, вторая половина марта 1830 года, из Москвы в Петербург: «Наше житье сносно. Дядя жив. Дмитриев очень мил. Зубков член клуба. Ушаков крив. Батюшков умирает...»
Но он не умер. Уже был вызван священник, и многие пришли прощаться. В доме на Тишинах 22 марта была отслужена всенощная. Лечивший его доктор Дитрих записал в своем дневнике:
«Певчие пели посредственно, но издали пение трогало больного. Двери были раскрыты, и звуки доносились до него. Он лежал неподвижно на диване с сомкнутыми глазами и даже не пошевелился, когда на стол к нему поставили свечу. Поэт Александр Пушкин, бывший во время службы вместе с Муравьевой и кн. Вяземской, подошел к столу, у которого лежал больной, и оживленно стал что-то говорить ему. Больной не шевельнулся...»
Нет, он не умер. Но о нем, о живом, уже писали как о мертвом. В самом деле, какое отношение имел этот измученный, помешанный человек к многообещающему поэту, к пламенному арзамасцу?
Больного увезли к родственникам в Вологду.
Зимой 1847-го Батюшкова приехал навестить Н. В. Берг. Батюшков молча стоял у окна, а Берг быстрыми штрихами набрасывал его портрет со спины. Больной Батюшков смотрел на метель и бормотал одну из своих безделок, эпиграмму на самого себя, написанную давно, еще до болезни: