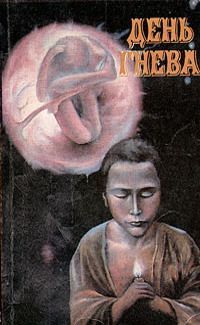Вера Галактионова - 5/4 накануне тишины
Увы, Цахилганов как-то не успел оставить ему и догу денег на еду…
И сначала Цахилганов прогнал ко всем псам бестолкового охранника,
исхудавшего и представшего бледным,
будто камуфляжное привидение,
с квитанциями за неуплату коммунальных услуг.
Потом дважды пнул под зад пятнистого дога, не дав ему домочиться и распахнув дверь квартиры, а затем — подъезда, во всю ширь.
Нет, разве можно было сравнить этого унылого красавца с Чаком?!
Про лохань с изумрудами разбушевавшийся Цахилганов запамятовал вовсе, поскольку расшиб колено о бивень и упал:
ему до слёз захотелось в Караган.
13
Ночь он, человек-достигший-всего, просидел с открытыми глазами, истуканом, подвернув ноги калачиком и накрывшись ватным одеялом охранника с головой, в огромном кожаном коридорном кресле — лишь тут, почему-то, было сухо.
Должно быть, охранник порол нещадно этого вездесущего короля псов, напрочь отучив его приближаться к себе, и только и делал, что слушал свой дешёвый плеер, забытый второпях здесь же, на одеяле.
Перед рассветом Цахилганов рассеянно включил его, обшарпанный плеер изгнанного ко всем псам десантника, уже тоскуя по охраннику и надеясь на внезапное его возвращенье.
Непререкаемая квартирная тишина оглушительно предупреждала Цахилганова об одинокой будущей старости. С чего бы это?..
Он возжелал послушать для развлеченья хотя бы блатоту одесского разлива или точно такой же, одесский, чечёточный юмор — то, что слушает обычно всяческое быдло, горько тем утешаясь. Но лишь неведомая юная поэт стала выговаривать ему в уши с провинциальным, кажется — тамбовским, сдержанным презреньем:
«…Пока тобою правит без стыда картавая кремлёвская орда, ты не народ, ты — полуфабрикат, тебя сожрут и сплюнут на закат, крестом поковыряют меж зубов, анафема тебе, толпа рабов, ползи на брюхе в западную дверь…»
14
Непонятно чем задетый, Цахилганов поморщился и отмотал плёнку, как следует. К нему прорвался затем грохот откидных стульев. «Слава России! — возмущённо гаркнул жалкий аппарат сотнями молодых, озверевших от недоеданья и отчаянья, голосов. — Слава России!»…
— Крики, крики, — укоризненно покачал головой Цахилганов, думая о бледном десантнике. — Энергия народного сопротивленья уходит в слова, ибо нет у неё реальной точки опоры. А вот не дали бы сопротивленцам разговаривать — они бы, глядишь, пе-ре-вернули мир —
вернули — мир?
А так — орут себе под хорошим присмотром. Под нашим, конечно же, присмотром… Допросить бы их в лучших лагерных традициях, чего они хотят добиться своими воплями? Правительство низложить
— изложить — ожить — жить —
стремятся, что ли?
Но тут внезапно вспомнился ему нелюдимый, приручённый им, литератор, которого Цахилганов так и не видел со дня заселения. И он ужаснулся, готовый обнаружить за стенкой
иссохший его скелет
в фетровых ботах.
— Ёо! — коротко простонал Цахилганов, освобождаясь от плеера рывком.
15В тесной комнатёнке для челяди заколыхалась от воздуха, засеребрилась, нервно задрожала огромная сеть паутины, раскинувшаяся от потолка до двери, и мягко опала рваным немощным хвостом.
Да, похоже, горничная — бойкая хохлушка с вертучими глазами,
разъезжающая однако в общественном транспорте бесплатно, по удостоверению, как член общества слепых,
определила с первого взгляда, что убираться в комнате литератора — лишний труд.
— У него даже ключа своего не было, — вспомнил Цахилганов, озираясь. — Хотя… можно было с охраной сдружиться.
Встроенный огромный шкаф оказался пустым,
ни сидора, ни бот,
лишь черносотенная давняя газета одиноко лежала на верхней полке.
Цахилганов захлопнул дверцы. И тут вдруг заскрипела, распахнулась сама собою форточка. И пожелтевший лист бумаги нерешительно сполз с подоконника. Он, покачиваясь, стал тонуть в утреннем новом воздухе,
пока не улёгся на сумрачное дно комнаты.
Цахилганов, не поднимая его и не нагибаясь, стал читать написанное шариковой ручкой и выгоревшее местами до белых проплешин —
от — утреннего — дневного — и — вечернего — бесплодно — чередующегося — света — унылой — российской — перестройки.
16
«126…И шестое имя богохульное… ерненко.
И седьмое имя богохульное — Горба…
В год-оборотень 1991 исполнился срок и тайной легенды старообрядцев бегунского толка: во время 360 лет и ещё три раза по 6 лет, от первого года царствования царя Михаила Романова до последнего года правления исполняющего волю антихриста, лукавого меченого, истинное имя которого читается наоборот — Лиахим, произойдёт третье падение Руси и явится второй царь Борис детоубийца и новая смута.
И из капищ, построенных на той стороне земли, где раскинулась среди вод великая блудница Америка, выйдет Зверь-двурог, второй слуга Красного дракона. А в капищах тех был он хранителем золота блудницы. И на Руси явятся демоны второго Зверя-двурога и станут плотью этого Зверя и будут пожирать ненасытно всё вокруг…
Летом в год оборотень 1991 видел я, как кричал на площади московский народ, словно сотни лет назад: «Бориса! Бориску на царство!!!» Видел и длинные вереницы людей, их несчастные лица, и то, как сами себе ставили на руках они номера; видел, как разбегаются кусочки плоти гниющего издыхающего Зверя по прозвищу Большевизм, бросая красные книжечки — свидетельства первого Зверя, и тут же на бегу хватая книжечки другого цвета — свидетельства второго Зверя-двурога.
И пожил я среди прельщённых.
И тошно стало мне. Ушёл я из Москвы…»
17
— Где же, однако, «шеф, благодарю за кров»? — всё же подобрал и строго рассмотрел бумагу Цахилганов, делая вывод о крайней чёрствости и своеволии истинно народных талантов. Лишь короткое слово «Молитва» было старательно выведено на обратной стороне, да всего одна фраза на непривычном церковно-славянском,
«Сын Божий, хотя спасти свою тварь, отческих ядр не отступи — отческих недр не отступи…»
а далее всё выгорело.
Он снял с листа лохмотья паутины, затем сунул бумагу в нагрудный карман пиджака
и резко отёр пальцы платком.
— Сволочи! Их невозможно сделать счастливыми даже насильно! — возмутился он, увидев спальное место давнего постояльца — старую фуфайку на полу, у стены. — Припёр бы себе любой уникальный диван из комнат! Спал бы под атласом, как сурок! Но нет: терпел неудобства. Им, исконным-посконным, жизнь не в жизнь без кеносиса… И вот, покинул столичных нечестивцев, дабы затаиться в глуши родных лесов и болот. Бо-лот,
Лот, разумеется — Лот, писаниям которого негде издаваться, как только здесь, в Содоме, да ещё в Гоморре, немного северней…
Угрюмятся, спасаются по своим медвежьим углам,
— от — кого — от — чего — отчего?
18
И снова Цахилганов вспомнил про свой Караган, с мимолётной, но острой тоской. Тоже дыра, конечно, изрядная,
втягивающая — и не выпускающая по-хорошему,
однако…
— Какая же фамилия у него была? У постояльца? Щепкин? — очнулся он в свете сырого городского утра. — Пеньков… Хм, что-то, способное запылать. Огнеопасное что-то, но пока не воспламенившееся.
В свои роскошные комнаты с мокрыми постелями Цахилганов заглянул ещё раз совсем не надолго –
загаженный
гагажий
пух
перин,
куда его девать…
Бивни, лежащие повсюду, делали квартиру похожей на безжизненный и непроходимый поваленный лес с облезшей корой.
— Чур меня, — попятился он. — Мёртвое царство, мать вашу столицу,
вместе с пригородом, где жила бритоголовая Нинэлька, так и не подвергшаяся оплодотворенью.
— …Нет, вон отсюда!
19
В самом деле — хитромудрые Хапов и Шушонин всегда выражали страстную готовность к тому, чтобы взять на себя часть его полномочий. И Цахилганов не доверял им ни на грош. Однако среди москвичей попадались ему лишь эти две человеческие разновидности — либо Хаповы, либо Шушонины,
а других он не обнаруживал никак.
Столичная шалая видеофирма могла действовать и без него. Приказчик, бывший пионервожатый, обозванный им сгоряча продюсером, охотно справлялся с производством сам, норовя озвучить пики порнографических страстей радостными звуками горна или частой барабанной дробью –
крала — баба — бобы — крала — баба — бобы — крала — баба — бобы — и — го — рох!
Ещё этот малый любил сниматься на фото с теми, кого искренне считал мастерами кино. Он то и дело выстраивал их, голых, в ряд у стены, в дружную ровную шеренгу, а сам кидался к ногам и преданно смотрел в объектив с пола, растянувшись и подперев голову кулаком.