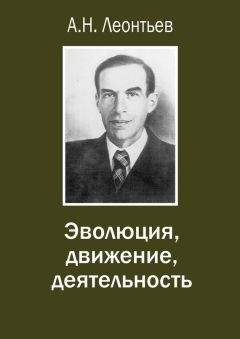Алексей Поляринов - Пейзаж с падением Икара
Постепенно спор наш закипел – и превратился в банальный обмен оскорблениями. Мы чуть не подрались там, в палате, в клинике, где он проходил обследование.
***
Вчера ночью меня разбудил телефонный звонок.
– Андрей умер, – донеслось из трубки вместо приветствия.
Я не ответил, возникла неловкая пауза, и дядя на том конце провода спросил:
– Эй, ты там? Алло-о!
Я нажал на «сброс».
Не знаю, сколько я просидел вот так, неподвижно, глядя на кривой квадрат лунного света на полу. Во рту появился привкус марли. Я включил ночник, сплюнул на ладонь и увидел маленький серый камушек.
– Пломба.
Боль в нижнем левом резце нарастала, пульсируя. Я сглотнул – и боль упала в горло; еще глоток – и боль закачалась в груди, как тяжелый маятник, ударяясь о ребра.
Глава 1. Два прозвища.
Заняв место в вагоне, я долго смотрел в окно, считал людей, но унылый, заиндевевший пейзаж быстро наскучил, и, чтобы как-то развеяться, я достал из сумки блокнот, карандаш и стал рисовать. Я всегда так делаю, если нечем заняться – подглядываю за людьми, ищу дефекты, интересные детали: морщины, шрамы, родинки. Стены моей студии (если это слово применимо к каморке 3х4 метра) завешаны изображениями фрагментов лиц: глаза, подсмотренные в магазине, подбородок – в метро и т. д.
В купе я исподтишка рассматривал пассажира на соседней койке. Лицо его было серое и бессмысленное, как холодец. «Уникальное лицо, – думал я, – даже ухватиться не за что, такое оно рыхлое и невыразительное. Ах нет, вижу-вижу. Веки! Тяжелые, набрякшие, почти лишенные ресниц, еще и с ячменем. Отличный экспонат».
Открыв блокнот, я сделал несколько штрихов: пара плавных линий, студенистые глаза, паутинки морщин вокруг.
Обычно этюды даются мне легко, но в этот раз неровный шум колес нещадно путал мысли. К тому же сосед сошел на следующей станции, и заканчивать портрет пришлось вслепую, по памяти.
Поставив завершающий росчерк, я поднес блокнот к светильнику, чтобы оценить результат, и тихо выругался – рисунок был испорчен: причем испорчен в той крайней степени безнадежности, когда невозможно определить, что именно не так. В последнее время все мои портреты похожи в одном: они смотрят на меня с недоумением.
***
Я так и не явился на похороны. Приехал на кладбище, постоял в отдалении недолго, глядя на заснеженные кресты, и ушел. Не знаю почему. Вообще тот день я вспоминаю, как нелепый сон, из тех, где декорации меняются быстрее, чем успеваешь оглядеться. Покинув кладбище, я какое-то время нарезал круги по окрестностям, пытаясь заставить себя вернуться к могиле. Долго плутал, наверно, – не помню, как стемнело.
Ночной оледеневший лес был похож на разбитый кусок хрусталя; луна поблескивала в его ветвистых трещинах. Я остановился возле огромной раскидистой ивы. Ее гибкие тонкие ветки, отягощенные инеем, тянулись к земле. Взяв палку, я с размаху вдарил по стволу – наледь осыпалась с неровным звоном. Звон успокоил – стало легче думать. Я подскочил к соседнему дереву и шарахнул по нему еще сильнее, закрыв глаза и вслушиваясь в хрусткий гул опадающего блеска. Еще удар! Еще! Освобожденные от холодной тяжести деревья, потрескивая, расправляли ветви.
Дыхание сбилось, суставы ломило, но я с каким-то детским упорством продолжал размахивать палкой. Добравшись до очередного исполинского ствола, я остановился, заметив в сугробе человеческие следы – они сворачивали вправо и исчезали за кустом шиповника. Минуту я смотрел на них, собираясь с мыслями; мне стало интересно. Преодолев колючие иероглифы ветвей, я двинулся дальше, стараясь наступать ровно в отпечатки чужих ног, дублируя владельца.
Пунктир следов оборвался через пару километров на берегу реки, бежавшей вниз по склону, еще не скованной льдом. Я огляделся, но вокруг блестел нетронутый наст, а впереди – вода. Мне стало страшно – даже жутко – при мысли о том, что с ним случилось. Не по воде же он пошел, в самом деле. Вероятно, его ждали здесь, и он уплыл на лодке.
– А-у-у! Есть кто живой?!
Тишина; снежная шапка бесшумно упала с ближайшего дерева.
Развернувшись, я побежал по оттискам в обратном направлении, рассчитывая выяснить, откуда взялся мой таинственный лесной спутник. Эта игра в следопыта, впрочем, быстро меня утомила. Еще и брешь в зубе снова начала пульсировать, вернулся привкус старой марли. Я дошел до дороги, по которой иногда проезжали машины, освещая фарами зернистый асфальт. Дальнобойщик (смельчак с гусарскими усами) подкинул меня до вокзала, где я купил билет до дома.
К своему месту мне удалось протиснуться с трудом – вагон был так туго набит людьми, что, казалось, стоит чихнуть, и он лопнет. Даже запахам было тесно: воняло псиной, несвежим дыханием, сырой одеждой. Я сел у окна и всю дорогу делал вид, что смотрю в него, хотя ничего и не мог разобрать в немногословной темноте. Повалил снег с дождем; потом еще и с градом – он гулко грохотал по крыше, мокрой ватой налипал на стекло.
Рядом сидел старик с бородой, похожей на пучок спутанных медных проводов. Он шелестел газетой и постоянно спрашивал, толкая окружающих:
– Нидерландский живописец, автор картины «Обращение Савла», восемь букв, вторая «р».
Но все молчали; даже те, кто знал ответ. Ведь теснота, сказать по правде, не очень-то сближает.
Я достал блокнот и попытался ухватить карандашом его корявый иссохшийся профиль.
– Птица без крыльев, четыре буквы, – бормотал он, наверняка прекрасно понимая, что ответа не дождется; и тут же отвечал: – Икар! – и хрипло хохотал.
Сырое небо за окном сменилось вдруг тесным гремящим мраком туннеля; а после – снова ливень, град и стук колес.
Старик не унимался – ему делали замечания, просили помолчать, но он упорно продолжал давить на нервы. Мое терпение иссякало – и, чтобы не сорваться, я встал, взял пальто и вышел – а остаток пути провел в тамбуре, прижавшись лбом к холодному стеклу и вспоминая следы на снегу. Кто же, все-таки, их хозяин? И куда он делся?
***
Дождь кончался, но мелкие капли его еще искрами сверкали в дрожащих желтых ореолах фонарей. Перрон поблескивал отражениями в замерзающих лужах.
Я вышел из вагона и направился к вращающейся двери вокзала. Градины хрустели под ногами, как битое стекло.
В зале ожидания сидел бродяга в рваном плаще и играл на флейте. Я остановился и минуту слушал, пытаясь уловить мелодию. Лицо бездомного было бледно и неподвижно, как лунный ландшафт, руки дрожали, но он все равно играл, и мелодия рождалась неровная, как азбука Морзе; игра резала слух, и я уже хотел отойти, но вдруг заметил, что вместо шляпы для милостыни он поставил перед собой ржавый бритвенный тазик. Это напоминание о Дон Кихоте так умилило меня, что я решил кинуть пару монет в знаменитый головной убор – полез в карман, но… вместо мелочи пальцы нащупали камень. Я вытащил на свет фигурку лошади, высеченную из красного минерала.
– Так-так. Это здесь откуда?
Еще пошарил вдоль подкладки, прекрасно помня дырку по шву – но вместо нее обнаружил помятый лист бумаги. И только тут заметил, что воротник у этого пальто коричневый – а не серый, как у моего.
– Вот дурень-то!
Поезд тем временем трогался; земля задрожала.
– Погодите! Ошибка!! – застряв на пару мгновений внутри капсулы вращающейся двери, сделав лишний круг, я выпал обратно на перрон и рванул за вагоном, нелепо оскальзываясь, как ребенок на катке. Из полутьмы вагонных окон за мной наблюдали желтые лица, кто-то даже помахал рукой.
Локомотив разогнался и вскоре скрылся за лесополосой. Где-то там внутри него ехало мое пальто – и мои последние деньги в его внутреннем кармане.
***
Олег Фомич Чревато был очень приветливым человеком. Даже слишком. Только один недостаток смазывал общее впечатление: говорят, раньше он мастерски играл в покер, но потом пережил инсульт, и теперь его перегревшийся мозг вместо карт тасует воспоминания. Склероз прогрессирует: старик путает лица, не помнит постояльцев, а потому для каждого пришедшего всегда устраивает экскурсию.
– Добро пожаловать! – говорит он, вскинув руки. – Позвольте, я покажу вам здесь все.
У него лицо спившегося священника (отличный экспонат для моей коллекции); плечи посыпаны перхотью; карманы его всегда набиты мелочью, и он позвякивает монетками на ходу, как свинья-копилка; каждый раз, демонстрируя мне убранство моей собственной квартиры, он большим пальцем потирает висок, словно пытаясь настроить резкость мышления.
Вот и сейчас все повторилось.
– Здесь у нас кухня! – сказал он, указывая на дверь в ванную. Прошел чуть дальше, открыл кладовку и исчез там; через минуту вышел и, виновато улыбаясь, пробормотал: – А этой двери здесь раньше не было, – снова заглянул туда и облегченно выдохнул: – Точно. Кладовая.